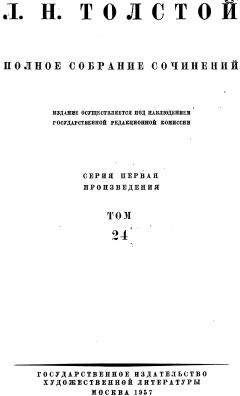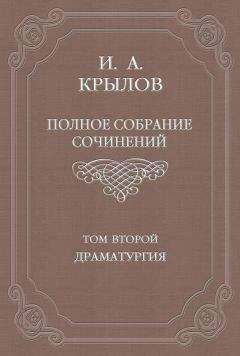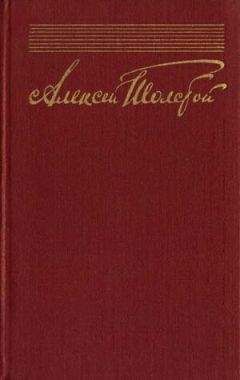Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 10. Война и мир. Том второй
— Нет, мама, я не влюблена в него, должно быть не влюблена в него.
— Ну, так так и скажи ему.
— Мама, вы сердитесь? Вы не сердитесь, голубушка, ну в чем же я виновата?
— Нет, да что́ же, мой друг? Хочешь, я пойду скажу ему, — сказала графиня, улыбаясь.
— Нет, я сама, только научите. Вам всё легко, — прибавила она, отвечая на ее улыбку. — А коли бы видели вы, как он мне это сказал! Ведь я знаю, что он не хотел этого сказать, да уж нечаянно сказал.
— Ну, всё-таки надо отказать.
— Нет, не надо. Мне так его жалко! Он такой милый.
— Ну, так прими предложение. И то пора замуж итти, — сердито и насмешливо сказала мать.
— Нет, мама, мне так жалко его. Я не знаю, как я скажу.
— Да тебе и нечего говорить, я сама скажу, — сказала графиня, возмущенная тем, что осмелились смотреть, как на большую, на эту маленькую Наташу.
— Нет, ни за что́, я сама, а вы слушайте у двери, — и Наташа побежала через гостиную в залу, где на том же стуле, у клавикорд, закрыв лицо руками, сидел Денисов. Он вскочил на звук ее легких шагов.
— Натали, — сказал он, быстрыми шагами подходя к ней, — решайте мою судьбу. Она в ваших руках!
— Василий Дмитрич, мне вас так жалко!... Нет, но вы такой славный... но не надо... это... а так я вас всегда буду любить.
Денисов нагнулся над ее рукою, и она услыхала странные, непонятные для нее звуки. Она поцеловала его в черную, спутанную, курчавую голову. В это время послышался поспешный шум платья графини. Она подошла к ним.
— Василий Дмитрич, я благодарю вас за честь, — сказала графиня смущенным голосом, но который казался строгим Денисову, — но моя дочь так молода, и я думала, что вы, как друг моего сына, обратитесь прежде ко мне. В таком случае вы не поставили бы меня в необходимость отказа.
— Графиня... — сказал Денисов с опущенными глазами и виноватым видом, хотел сказать что-то еще и запнулся.
Наташа не могла спокойно видеть его таким жалким. Она начала громко всхлипывать.
— Графиня, я виноват перед вами, — продолжал Денисов прерывающимся голосом, — но знайте, что я так боготворю вашу дочь и всё ваше семейство, что две жизни отдам... — Он посмотрел на графиню и, заметив ее строгое лицо... — Ну прощайте, графиня, — сказал он, поцеловав ее руку и, не взглянув на Наташу, быстрыми, решительными шагами вышел из комнаты.
——————
На другой день Ростов проводил Денисова, который не хотел более ни одного дня оставаться в Москве. Денисова провожали у цыган все его московские приятели, и он не помнил, как его уложили в сани и как везли первые три станции.
После отъезда Денисова, Ростов, дожидаясь денег, которые не вдруг мог собрать старый граф, провел еще две недели в Москве, не выезжая из дому, и преимущественно в комнате барышень.
Соня была к нему нежнее и преданнее чем прежде. Она, казалось, хотела показать ему, что его проигрыш был подвиг, за который она теперь еще больше любит его; но Николай теперь считал себя недостойным ее.
Он исписал альбомы девочек стихами и нотами, и не простившись ни с кем из своих знакомых, отослав наконец все 43 тысячи и получив росписку Долохова, уехал в конце ноября догонять полк, который уже был в Польше.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
После своего объяснения с женой, Пьер поехал в Петербург. В Торжке на станции не было лошадей, или не хотел их дать смотритель. Пьер должен был ждать. Он не раздеваясь лег на кожаный диван перед круглым столом, положил на этот стол свои большие ноги в теплых сапогах и задумался.
— Прикажете чемоданы внести? Постель постелить, чаю прикажете? — спрашивал камердинер.
Пьер не отвечал, потому что ничего не слыхал и не видел. Он задумался еще на прошлой станции и всё продолжал думать о том же — о столь важном, что он не обращал никакого внимания на то, что́ происходило вокруг него. Его не только не интересовало то, что он позже или раньше приедет в Петербург, или то, что будет или не будет ему места отдохнуть на этой станции, но ему всё равно было в сравнении с теми мыслями, которые его занимали теперь, пробудет ли он несколько часов или всю жизнь на этой станции.
Смотритель, смотрительша, камердинер, баба с торжковским шитьем заходили в комнату, предлагая свои услуги. Пьер, не переменяя своего положения задранных ног, смотрел на них через очки, и не понимал, что́ им может быть нужно и каким образом все они могли жить, не разрешив тех вопросов, которые занимали его. А его занимали всё одни и те же вопросы с самого того дня, как он после дуэли вернулся из Сокольников, и провел первую, мучительную, бессонную ночь; только теперь, в уединении путешествия, они с особенною силой овладели им. О чем бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же вопросам, которых он не мог разрешить, и не мог перестать задавать себе. Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, всё на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его.
Обложка первого издания 1868—1869 гг. романа «Война и мир».
Вошел смотритель и униженно стал просить его сиятельство подождать только два часика, после которых он для его сиятельства (что́ будет, то будет) даст курьерских. Смотритель очевидно врал и хотел только получить с проезжего лишние деньги. «Дурно ли это было или хорошо?» спрашивал себя Пьер. «Для меня хорошо, для другого проезжающего дурно, а для него самого неизбежно, потому что ему есть нечего: он говорил, что его прибил за это офицер. А офицер прибил за то, что ему ехать надо было скорее. А я стрелял в Долохова за то, что я счел себя оскорбленным. А Людовика XVI казнили за то, что его считали преступником, а через год убили тех, кто его казнил, тоже за что-то. Что́ дурно? Что́ хорошо? Что́ надо любить, что́ ненавидеть? Для чего жить, и что́ такое я? Что́ такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?», спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного, не логического ответа, вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: «умрешь — всё кончится. Умрешь и всё узнаешь, или перестанешь спрашивать». Но и умереть было страшно.
Торжковская торговка визгливым голосом предлагала свой товар и в особенности козловые туфли. «У меня сотни рублей, которых мне некуда деть, а она в прорванной шубе стоит и робко смотрит на меня, — думал Пьер. — И зачем нужны эти деньги? Точно на один волос могут прибавить ей счастья, спокойствия души, эти деньги? Разве может что-нибудь в мире сделать ее и меня менее подверженными злу и смерти? Смерть, которая всё кончит и которая должна притти нынче или завтра — всё равно через мгновение, в сравнении с вечностью». И он опять нажимал на ничего не захватывающий винт, и винт всё так же вертелся на одном и том же месте.
Слуга его подал ему разрезанную до половины книгу романа в письмах m-me Suza.[24] Он стал читать о страданиях и добродетельной борьбе какой-то Amélie de Mansfeld.[25] «И зачем она боролась против своего соблазнителя, — думал он, — когда она любила его? Не мог Бог вложить в ее душу стремления, противного Его воле. Моя бывшая жена не боролась и, может быть, она была права. Ничего не найдено, опять говорил себе Пьер, ничего не придумано. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости».
Всё в нем самом и вокруг него представлялось ему запутанным, бессмысленным и отвратительным. Но в этом самом отвращении ко всему окружающему Пьер находил своего рода раздражающее наслаждение.
— Осмелюсь просить ваше сиятельство потесниться крошечку, вот для них, — сказал смотритель, входя в комнату и вводя за собой другого, остановленного за недостатком лошадей проезжающего. Проезжающий был приземистый, ширококостый, желтый, морщинистый старик с седыми нависшими бровями над блестящими, неопределенного сероватого цвета, глазами.
Пьер снял ноги со стола, встал и перелег на приготовленную для него кровать, изредка поглядывая на вошедшего, который с угрюмо-усталым видом, не глядя на Пьера, тяжело раздевался с помощью слуги. Оставшись в заношенном крытом нанкой тулупчике и в валеных сапогах на худых костлявых ногах, проезжий сел на диван, прислонив к спинке свою очень большую и широкую в висках, коротко обстриженную голову и взглянул на Безухова. Строгое, умное и проницательное выражение этого взгляда поразило Пьера. Ему захотелось заговорить с проезжающим, но когда он собрался обратиться к нему с вопросом о дороге, проезжающий уже закрыл глаза и сложив сморщенные старые руки, на пальце одной из которых был большой чугунный перстень с изображением Адамовой головы, неподвижно сидел, или отдыхая, или о чем-то глубокомысленно и спокойно размышляя, как показалось Пьеру. Слуга проезжающего был весь покрытый морщинами, тоже желтый старичок, без усов и бороды, которые видимо не были сбриты, а никогда и не росли у него. Поворотливый старичок-слуга разбирал погребец, приготовлял чайный стол, и принес кипящий самовар. Когда всё было готово, проезжающий открыл глаза, придвинулся к столу и налив себе один стакан чаю, налил другой безбородому старичку и подал ему. Пьер начинал чувствовать беспокойство и необходимость, и даже неизбежность вступления в разговор с этим проезжающим.