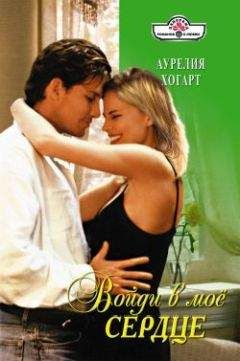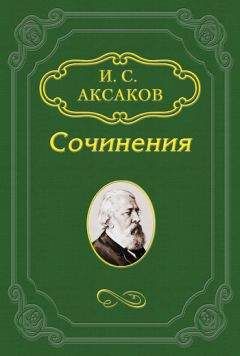Сергей Шаргунов - Ура !
- А давай дружить?
- Давай, - глухо согласился молодой коммунист, вслушиваясь в предрассветный лай собак и пение собачьих цепей.
Дружба не получилась. Через неделю началась великая война.
А я про свою дорогую бабушку Анну. Она, темная, класс образования, рассказывала прелестным образным слогом. Ясный окающий выговор журчал скользким льдом. Изъяснялась вольно: "И чё это я в рыбе больше всего люблю голову! Очи выем, мозг высосу..." Каждое слово округлялось под языком, как мокрый снежок в ребячьей рукавице: "Я смерть одну хочу! Заглянет она, а я ее, как с ложки, сразу сглотну". Я ей показал фото Гитлера. Она долго изучала усатенького Адольфа и вдруг принялась кромсать желтым ногтем. "Чего ты делаешь, бабушка!", а она приговаривала, отдирая жалкие лоскутки: "Гадина! Мужа мого убил..."
В 1997-м, девяностолетняя, навестила нас в Москве. Здесь - болезненное сочетание слов - СЛОМАЛА ШЕЙКУ БЕДРА. Я ее привязал к стулу белыми платками и свез вниз на лифте. Она перебирала желваками под дряблой кожей. Мы поехали на машине через рекламную столицу. Мелькали огни по деревенскому древнему лику. Приехали на дачу, и там бабушка прожила еще три года.
Я бывал наездами на даче. Первым делом заглядывал к родной старухе. Скуластая, с волчьими глазами.
А тридцатого декабря 2000-го я шлялся по темени с местными. Вернулся в дом, а Анна не спала.
- Тебя дожидаюсь, Серега! Сережка ты моя золотая...
Попросила вина, я поднес ей.
- У-ух! Больно сладко. На, допивай!
Я допил рюмашку.
- Ты, Серега, придвинь стулья к постели-то. Я ночью ничё не соображаю, разметаюсь вся...
Я придвинул, и над придвинутыми креслами мы обменялись рукопожатиями. Бабушка трясла мою руку, обхватив двумя, костистыми:
- До свидания! До свидания, товарищ дорогой!
А наутро, когда я стал ее будить и поднял, она забила рукой, как крылом. И глаза ее закатились, мычание сорвалось изо рта. Страшно стрекотала вверх рука.
Через двое суток она умерла. Веки прикрыты, я наклонился, в сером глазу отражался дневной свет. Поцеловал холодненькую щеку. Подержал бабушку за кисть, прозрачная кость, желтая дымка кожи.
Утром мы с соседом тащили гроб, ноги увязали в снегу. Мы тяжело дышали. Из ворот напротив насмешливо следили за нами ребятишки. Автобус дернулся - и тут, глядя на прокопченные фигуры крыш, думая о петухах, и курах, и козлах бородатых, я и всхлипнул. Ну а больше не слезинки. Автобус трясло, по полу ворочался лакированный гроб.
Что сказать про отпевание... Оно, как перезрелая слива, заполняет храм изнутри и давит. Пришел черед кладбища, где прощально открыли гроб. Гордая Анна Алексеевна. Сухая морозная поземка неслась, свечи горели, цветы благоухали. Гроб заколотили и опустили. Мерзло стучала земля. Какой высокий звук! Словно небесный гром...
А меня замучила тоска, читатель, припадки тоски. Черная-черная тоска. Черный инфернальный рот приник к левому соску и засасывает мое нелепо булькающее сердце. Я выглянул в окно. И такая тоска охватила сердце. И тут это со мной приключилось. Грубые комья в горле. Я пытался вздохнуть, вкус земли во рту, ноздри щекотал земляной запах. Кладбищенская глина... Я крутил головой у окна.
Хороши существа, не подозревающие о смерти. Прекрасны дети. Девочки с прыгалками. Девочки, взлетающие на качелях. Жрущие моченые яблоки девочки. Хорош мальчик Сережа, плюнувший. Некоему юмористу я в детстве... Он начал: "Какой красивый ма-альчик!" А я ему плюнул в бородато-смуглое лицо.
И я обращаюсь к потомкам. Вас нет еще. Вы не зачаты еще блондинистой, красной изнутри мамкой Леной. Орите, ребята, кидайтесь камнями и стреляйте метко. Всею жизнью своей громыхните: "Ура!"
Не слышу.
Громче!
...а-а-а!!!
ЕДА
Я хочу вновь увидеть мир надежным и ясным - закрыть глаза, протереть глаза, вернуть детское чувственное восприятие жизни. Я вышел за ворота и замер. Гниет под ногой лист, бритвенно блестит за черненькими кустами рельс. Мчится зверь поезда. Гудок так близко-резок, как вкус рябинины, оранжево лопнувшей во рту. В пролетающем поезде есть что-то трагическое. Как будто вагоны проносят твоих покойных знакомых. Звучат в голове стихи нигде не печатавшихся поэтов, которые декламировал мой крестный Красовицкий: "Молодость проходит электричками - восемнадцать, девятнадцать, двадцать!" - и еще другие: "Вам здесь сходить? А мне гораздо раньше... - сказал он и сошел с ума".
Дохлая крыса лежит в профиль на земле. Вялое ушко, ветер шевелит кончиком хвоста. Ты дохлая, а я живой! Я перешагну. Я через эту крысу ощутил полноту жизни.
Бывало, люди крыс и ворон жрали и друг друга... От голода. Одна старушка с тонко прочерченным лицом рассказывала, что в ленинградскую блокаду "я просто металась от голода! И тут заметила в углу паутину. - И она балетно повела рукой. - Я ее сняла, и с таким удовольствием съела, и изумительно подкрепилась!" Жратва - важное дело! Марш челюстей и насыщение надо прославлять. А голод надо ругать, голод уродует, сводит с ума. Ну и модная жвачка бессмысленна. Чавканье пустотой. Жуют не прекращая, без пауз мои сверстники резину. Сплевывают. Асфальт весь в белых присохших плевках.
А настоящая еда одухотворена. По-разному можно есть. Заблестеть губами и трескать за обе щеки. Деликатно вкушать. Быстрое одинокое насыщение... Стыдливое прилюдное проглатывание... Степенный семейный обед... Еда как принуждение, детские ложки манной каши.
Приезжаешь из города усталый, еле дотаскиваешься до лесу, а там силы все прибавляются и прибавляются. Родина - это грибы и ягоды. Ходить по грибы, по ягоды, по орехи - сил набираться. Найти гриб - одно из первых чудес детства. Ощущение нереальности, когда ты его сорвал. Держишь за ножку, и нарастает гул атомного взрыва.
За границей под душным целлофаном стерильные шампиньоны. А в России живая ширь грибов. Пенек с опятами - целый домик с веснушчатыми детьми! "Скользкие, как цыганские дети", - говорила одна девочка, промывая золотые маслята. Или хрупкие нежные сыроежки, точно цветы в семье грибов: зеленоватые, лимонные, сиреневые, красные. Лисичка похожа на зародыш лисенка... Подосиновик, подберезовик - добры молодцы, приближенные к белому, его гвардейцы. Белый царь грибов. Гриб-удача, настоящий приз! Понюхаешь - дух захватывает, весь лес вобрал он в себя.
Иные грибы на расстоянии излучают яд. На колышущихся ножках желтовато-зеленая отрава предупреждает о близости бабы-яги. Узорчатые расписные теремки. Зловредные черные зонтики. Бледная, как смерть, поганка.
Драгоценные огоньки ягод! Рвать малину, царапаясь. Бруснику, чернику, костянику... В детстве я звонко вызывал: "Земляничка, земляничка, покажи мне свое личико!" А грибник рядом шутил: "Она тебе свое личико не кажет, она моего, старого, пугается". Набиваю ягодами рот, и как мне вкусно, как мне сладко...
А белая рассыпчатая картошка с солениями, с квашеной капустой, политая подсолнечным, с Украины, маслом... Такого нигде нет! Хорошо копать картошку. Надавить на лопату, поддеть, и куст у меня в руке, и болтаются дурашливые бубенцы картофелин. С отрадой отряхиваю от земли плод.
Суп. Второе. Третье. Не поел первого - как будто и не ел, без первого обед не настоящий. Я скандирую: "Щи! Борщ! Уха!" И иностранное слово: "Бульон!" подхватит мой батальон...
Рыбу люблю, но не вареной. Хладнокровная, полная речных бликов подводных, у нее суть водянистая, а сама она с чешуей, жиром - серо-белая. Заумная тварь со сложными костями. Вываренная, приобретает особую заумь.
Сало - сила! С черным хлебом. Хлеб люблю черный, с водой, с луком, с солью. В детстве я буквально воспринимал выражение "хлеб с солью", оно звучало для меня заманчиво. Я фантазировал, как освободителем въезжаю в город и мне преподносят хлеб с солью. И я лакомлюсь этой достойной наградой за мои победы.
У моей невесты фамилия мясиста! Я нормально воспринимаю сырое мясо, огромные красные цветы мяса, еще насыщенные жизнью. Розовый пар. Свежее мясо как море на закате. И такое скоротечное, прямо на глазах темнеющее. Сумерки мяса. Надо готовить, не дожидаясь мясных сумерек.
Обычно, поев, говорят: "Спасибо", так и в столовой можно сказать, а в "Макдоналдсе" придет в голову "спасибо" сказать? Не противно тут? А что-то очень никак, точно под наркозом. Меткие жесты персонала, твердыни столиков, белые стулья, ввинченные намертво в блестящий кафель. День за днем длится операция. Высасываю кока-колу, заманчивая жижа, стеклышки льда стучат по зубам. Сколь ни пей - жажду не утолишь, лишь во рту все жестче вяжет, и странный ком вспухает в горле. Картофель-фри, сальные желтенькие нетопыри. Кусаю гамбургер. Под гнетом пухлого теста - мясо, как жеваная газета. Подвкуснено кетчупом. Ну, вроде наелся.
Еще равнодушен к шоколаду, ко всяким искусственным сластям. Само слово "сластена" отзывается глухой темной неприязнью. Фу, сладкие слюни тягучие... И торты, эти пышные хоромы с кремовыми лабиринтами, не приемлю. Кусочек отрежу, не больше. Съесть целый торт - все равно, что быть придушенным подушкой.