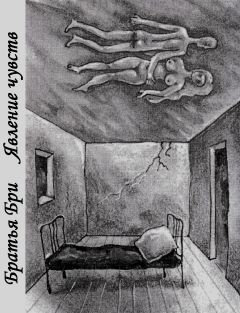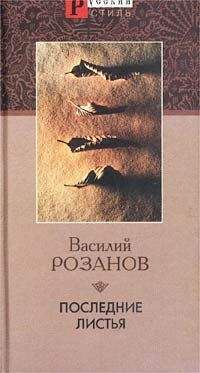Иван Бунин - Том 3. Произведения 1907–1914
— Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?
— А чума их знает…
На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорках. В руке у старика была длинная ореховая палка и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более старым, чем был, — взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Серый, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство… «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» — пришло ему в голову восклицание Гоголя. — «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище — „депутат хотел реку отравить“… Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего — несчастный!..» — И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы — внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдеича на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, видавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича, — и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в дальнюю комнату, где народу было, меньше, сел за столик, спросил бутылку меду. Под ногами, на затоптанном и заплеванном полу — ломтики высосанного лимона, яичная скорлупа, окурки… А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг, почувствовав ни себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. «Ну, залетел!» — восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить — в оправдание: «У меня, господин, брат тут служа… Брат родной…». И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили народ! «Залетел»! Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: — «Ну, прощай!» — поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь обстановки, и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: «Не прогневайтесь…»
В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что «цены на хлеб бог строит». Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель — никто и не замечал проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ все жадный до весенних дождей — хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая манджурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаянии. И поднялся шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе… Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, приказывал свой чемоданы увязывать… Сидевший против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:
— Позвольте, господа! Вот вы говорите — свобода… Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты… Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит; «Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если мои взгляды левее его…
— Взгляды? — альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец в сапогах бутылками, ручник Черняев, все время косивший на него свиными глазками. И, не дав ему опомниться, завопил!
— Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты о голоду околевал, ре хуже отца своего, побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!
— Кон-сти-ту-у-ция, — тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.
Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие… Да хорош был и Полозов, — учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь… Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже-зеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидел на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах — бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум!
— С богомолья?
— Из Воронежа, — с милой готовностью ответил слабым криком странник.
— Жгут там помещиков?
— Жгут…
— И чудесно!
— Ась?
— Чудесно, говорю! — крикнул Кузьма.
И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать цигарку… Но мысли опять спутались. «Странник — народ, а скопец и учитель — не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыскивать с этого народа? Дат но кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.
На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей — до Казакова было двенадцать верст, — потом пять с полтиной. Наконец, один сказал: «Трояк отдашь — повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не прежнее…» Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: «Опять же корма дорогие…» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая, лошаденка — ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанный оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей, — пахарь времен царя Гороха! — лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сиплый.
— Как тебя зовут? — спросил Кузьма.
Звали Ахванасьем…
«Ахванасьем!» — подумал Кузьма с сердцем.
— А дальше?
— Меньшов…. Н-но, анчихрнст!
— Дурная, что ль? — кивнул Кузьма на горло.
— Ну, уж и дурная, — пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону. — Квасу холодного напился.
— Да глотать-то больно?
— Глотать — нет, не больно…
— Ну, значит, и не болтай попусту, — сказал Кузьма строго. — Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Женатый небось?
— Женатый…
— Ну, вот видишь; Пойдут дети — и наградишь ты их всех в лучшем виде.
— Уж это как пить дать, — согласился Меньшов.
И, томясь, стал дергать вожжи. «Не-но… Сладу с тобой нету, анчихрист!» Наконец бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:
— Собрали, купец, Думу-то ай нет?
— Собрали.
— А Макаров-то, говорят, жив, — только не велел сказывать…
Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! «А богатство-то какое!» — думал он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то какой! Грязь на дорогах — синяя, жирная зелень деревьев, трав, огородов — темная, густая… Но избы — глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб — рассохшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками… Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба — все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном — палочка и по ней вверх — рогульки, — елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом — зубцами. «Творчество! — ухмыльнулся Кузьма. — Пещерные времена, накажи бог, пещерные!» На дверях пунек — кресты, написанные углем, у крыльца — большой могильный камень, — видно, дед или бабка про смерть приготовили… Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки — крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, — вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями… А семья большая, детей много, зимой — ягнята, телята… И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут — и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются — «чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!» — желают друг другу «подавиться куском на Велик день»; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные, жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую… Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями…