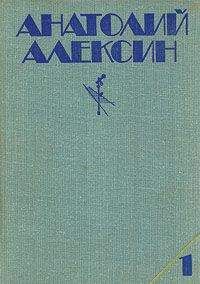Анатолий Алексин - Мой брат играет на кларнете (сборник рассказов)
– Он вырос на глазах у дедушки, – сказал Глеб.
Я часто стараюсь представить себе взрослых людей детьми, которыми они были когда-то… Григория я почему-то представить себе ребенком не смог. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что почти в каждом человеке на всю жизнь остается что-нибудь детское: или взгляд, или смех, или какой-нибудь жест. У Григория ничего детского не осталось… И я не мог вообразить себе, как Гл. Бородаев таскал его на руках.
Я уже говорил, что прозвища стали у нас в школе «повальным бедствием»: почти никого не называли по имени. Я до того привык к этому, что, знакомясь с каким-нибудь человеком, сразу же мысленно давал ему прозвище. Григория я стал про себя называть Племянником. Очень как-то не подходило к нему это милое семейное слово, вот я его и прозвал: мы часто давали прозвища как бы в насмешку. Низкорослому кричали: «Эй, Паганель!», а длинному: «Пригнись, Лилипутик!» Племянник поднялся со стула.
Можно было подумать, что ему от рождения досталась не своя голова: она была очень маленькой. И на лице было так мало места, что на нем не умещалось ничего, кроме усмешки. Усмехался Племянник все время.
– Ну, чего вам показывать?
– Нам все интересно! – сказала Миронова.
– В этой комнате тот самый чудак жил, который пропал. Залез сюда под Новый год – и баста. Провалился, как будто мать родная не родила. Соображаете?
Миронова сразу стала записывать. Она на всяких докладах, лекциях или творческих встречах записывала буквально каждое слово. Скажет докладчик: «Здравствуйте!» – она начинает писать. Скажет он: «До свидания!» – она тоже запишет и захлопнет тетрадь.
«Туго, как струны, натянутые провода чуть не касались окна его комнаты…» – вспомнил я строки из повести. Провода в самом деле «чуть не касались».
Тут не было домысла.
«Пора уже наконец по-настоящему оправдать свое прозвище!» – решил я. И произнес:
– Мне помнится, в повести сказано: «В полночь на даче потух свет. Утонул во тьме и весь дачный поселок…»
– Слушай, парнек, ты не выскакивай!.. – Племянник отмахнулся, будто на том месте, где я стоял, вдруг зажужжал комар. В слове «паренек» он почему-то пропустил первое «е».
Я очень любил, чтобы на меня при Наташе Кулагиной поглядывали девчонки и чтобы она это замечала. Я был счастлив, если при ней ко мне обращались за помощью, просили что-нибудь объяснить: задачку или там теорему… Но когда при ней ко мне относились пренебрежительно, я ужасно страдал.
– Понимаете, – стал я объяснять сразу всем, – напрашивается такая догадка: раз электричества не было, Дачник мог вылезти через окно, схватиться за провода (они были в тот миг безопасны!), потом мог долезть, цепляясь за них, как циркач, до первого столба, а потом спуститься на землю. И навсегда скрыться от родственников! Поэтому и следов на дачном участке не было. Это, как говорят, гипотеза… То есть предположение.
– Окно было заперто изнутри, – сказал Глеб.
– Тогда гипотеза отпадает!
– Если ты, парнек… – угрожающе начал Племянник. Слово «паренек» он упорно сокращал на одно «е», и слово звучало пренебрежительно. Сердце мое сжалось от боли: ведь рядом была Наташа.
– Гипотеза отпадает! – громко повторил я, трепеща всем телом при мысли о том, что он совсем уж унизит меня при ней. И я не смогу потребовать удовлетворения: все-таки он был в два раза длинней меня.
Он снова махнул ручищей, словно прогнал комара. Но все-таки оскорбительные слова не слетели с его насмешливых губ.
Мы спустились по «ворчливо-скрипучей» лестнице, которая не скрипела.
Племянник распахнул какую-то дверь, пригнулся и вошел в комнату. Мы тоже вошли. Комната переходила прямо в террасу, а терраса выходила прямо во двор.
– Хороший был писатель, – сказал Племянник. – Он у тетки дачу сразу на полгода, а то и на год снимал. И деньги вперед платил. Хороший писатель!
– В этой комнате он создавал «Старую дачу»? – спросил я.
– Слушай, парнек, если ты будешь выскакивать… Если ты будешь…
– Понятно! Понятно! – перебил я. – Я нарушаю ваш план? Это, поверьте, от нетерпения!
Опять он не успел унизить меня при ней.
– Писатель здесь не писал, – сообщил нам Племянник. – Он про Дачника в подвале писал. В подземелье…
Миронова продолжала записывать.
– Здесь есть подземелье? – шепотом спросил я.
– Он утром залезет туда – и баста. До обеда не видно, будто мать родная не родила… Соображаете?
– Философ Диоген сочинял в бочке, – лениво изрек Покойник. – А этот, значит, в подвале?
– Он там страху на себя нагонял, – объяснил нам Племянник. – Там сыро, темно…
– Понимаю: входил в настроение! – продолжал выхваляться Покойник.
Племянник Григорий почему-то не крикнул ему: «Слушай, парнек!..» – а рассказывал дальше:
– Я там бумажки какие-то нашел, листочки… Хотел выбросить, а тетка говорит: «Снеси-ка в музей!» Я и снес. Есть у нас музей на соседней станции.
– Видимо, краеведческий, – высказал предположение Покойник.
Племянник и тут не цыкнул на него, а спокойно сказал:
– Ага, этот самый. Мне благодарность в письменном виде выдали! Бумажки эти под стеклом разложили и написали: «Найдены и доставлены Григорием Шавкиным». Теперь все читают. Экскурсантам про меня рассказывают… Соображаете?
– Еще бы: рукописи, черновики! – снова вмешался Покойник.
– Они самые! – согласился Племянник.
Я давно заметил, что личности вроде Племянника обычно выбирают одного какого-нибудь человека и начинают к нему придираться: «Ну, чего смотришь? Чего уставился? Чего тут стоишь? Чего тут сидишь?» Хотя все остальные тоже смотрят, тоже стоят и тоже сидят. Но типы вроде Племянника выбирают кого-нибудь одного и, как правило, самого симпатичного, самого интеллигентного человека. Племянник выбрал меня…
– Слушай, парнек, чего в пол уставился? Слушать не хочешь?
– Он, вероятно, задумался, – сказал Покойник. Все посмотрели на него с благодарностью: он вроде бы меня защитил. Это было невыносимо!
– Скорее туда! – крикнул я. – В подземелье!.. К рабочему месту писателя!
– Если не дрейфите, то айда! – сказал Племянник. Это мое предложение его почему-то не разозлило. Позже я узнал почему. Но в ту минуту… В ту минуту догадка не захотела меня озарить, хотя вообще она делала это очень охотно.
Бледный Покойник топтался на месте.
– Боишься? – спросил я шепотом, но так, чтобы услышала Наташа Кулагина. Я должен был раскрыть ей глаза!
Мы стали спускаться по ступеням, на которых скользила нога: может быть, это была сырость, а может быть, даже плесень… Радостное волнение охватило меня; по таким вот ступеням спускались в подземелья настоящие сыщики. Они спускались, зная, что могут уже никогда не подняться!..
«О, если бы нас поджидала там какая-нибудь опасность! – мечтал я. – Наташа бы в страхе бросилась не к Покойнику, а ко мне, и я бы нашел выход из положения. Я спас бы ее! Но, к несчастью… Раз туда каждый день залезал Гл. Бородаев, значит, ничего опасного там быть не может. И я не смогу доказать ей…»
– Эй, парнек, опять ты того… поперек батьки в подвал лезешь! Я свет зажгу.
Он повернул выключатель. И сквозь приоткрытую дверь, обитую, как и полагается, ржавым железом, выползла полоска тусклого света. В повести Гл. Бородаева свет всегда «выползал» из приоткрытых дверей или «мрачно выхватывал» что-то из темноты, а потом, когда двери закрывались, он «уползал» обратно. Это я хорошо помнил.
Племянник с трудом раскрыл дверь до конца. Она завизжала на плохо смазанных петлях. В повести у Гл. Бородаева все дверные петли были обязательно плохо смазаны и визжали. Это я тоже помнил.
Итак, все было прекрасно, как в самых настоящих детективных произведениях!
– Валяйте! – сказал Племянник.
Миронова опередила всех: она любила выполнять приказания. Племянник пропустил нас в подвал. Последним вошел Покойник… На меня приятно пахнуло гнилью и плесенью. Я вдыхал полной грудью!
Внезапно дверь с визгом захлопнулась. Потом железо проехало по железу – это Племянник задвинул щеколду. Он остался по ту сторону двери, которая, как мне показалось, захлопнулась навсегда!..
Глава VI,
из которой становится ясно, что мне ничего не ясно
Невольный страх овладел мною. Но лишь на мгновение. А уже в следующую секунду я отбросил его. Верней сказать, отшвырнул.
Тем более, что Наташа сделала шаг по направлению ко мне. Совсем незаметный шажок, но я-то его заметил. Точнее сказать, почувствовал. Вообще, когда есть существо, которое тебе нравится, следишь только за ним и говоришь для него, хотя делаешь вид, что для всех. И наблюдаешь, как оно на все реагирует. И подсчитываешь, сколько раз это существо на тебя посмотрело.
Тот, кто любил, поймет меня без труда!
«В эту опасную минуту она хочет быть рядом со мной! – решил я. – Хочет, чтоб я уберег ее, заслонил собой!» О, как часто мы выдаем желаемое за действительное!..