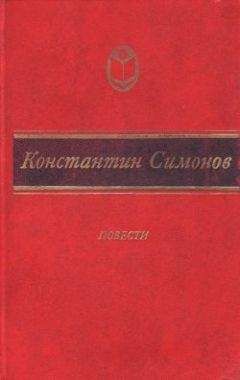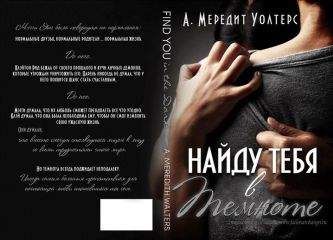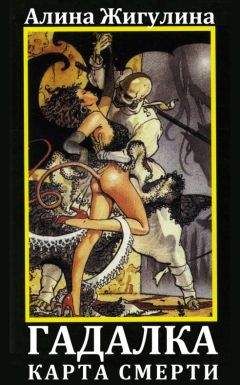Александр Солженицын - Бодался телёнок с дубом
Пришлось мне искать приёма у Лебедева - уговорить его лишить меня высокой чести быть приглашённым на пленум, отпустить душеньку. Так мы увиделись в третий и последний раз - в ЦК, на пятом этаже главной (хрущёвской) лестницы.
Просьба моя удивила его крайне - ведь билетов на эти встречи и пленумы домогались, выпрашивали по телефону, по ним соображалась шкала почёта. Мог ли я говорить ему прямо? Конечно, нет. Бормотал о семейных обстоятельствах12.
Разъяснил мне Лебедев ещё раз, чем дурна моя пьеса: ведь в лагерях же люди и исправлялись, и выходили из них, - а у меня этого не видно. Потом (очень важно!), пьеса эта обидит интеллигенцию - оказывается кто-то там приспосабливался, кто-то боролся за блага, а у нас привыкли свято чтить память тех, кто погиб в лагерях (с каких пор?!..). И неестественно у меня то, что нечестные побеждают, а честные обречены на гибель. (Уже прошёл шумок об этой пьесе, и даже Никита спрашивал - какая? если по "Ивану Денисовичу", то пусть ставят. Но Лебедев сказал ему: "Нет, не надо". Лебедеву, конечно, пора была со мною хвататься за все тормоза.) Многознающе убеждал меня Лебедев - "Если бы Толстой жил сейчас, а писал так, как раньше" (ну, то есть, против государства) - "он не был бы Толстой".
И вот был тот закадычный либерал, тот интеллигентный ангел, который свершил всё чудо с "Иваном Денисовичем"! Я долго у него просидел, рассматривал - и всё более незначительным, ничем не отмеченным казался мне он. Невозможно было представить, чтоб в этой гладенькой головке была не то чтобы своя политическая программа, но отдельная мысль, отменная от партийной. Просто накал сковороды после XXII съезда был таков, что блин мой схватился, подрумянился, просился в сметану. А вот остыло - и видно, как он сыр, как тяжёл для желудка. И не поволокли бы блинщика на конюшню.
То и дело поднимая трубку для разговора с важными цекистами (и всё по пустякам, какие-то шутки, что-то о футболе, разыгрывали кого-то статьей в "Комсомолке") он неприятно смеялся мелкими толчками, семенил смехом. Он фотографировал меня до головной боли, хвастался новейшей "Лейкой" из ФРГ за 550 рублей, "мы же премию за книгу получили" (это - ленинскую, за репортаж, как Никита в Америку ездил). Гордясь и с охотою показывал мне тяжелые обархатенные альбомы, где под целлулоидовыми пленками хранились его крупные цветные снимки, по альбому на каждую заграничную прокатку Никиты: Ильичёв то в одежде Нептуна, то жонглирует блюдом на голове; Аджубей и Сатюков с шутовскими выражениями прильнули к статуе богини; Хрущёв целует прелестную бирманскую девушку; Громыко блаженствует в кресле самолёта. Они действительно жили в самом счастливом обществе на земле. (К тому ж всю обработку лебедевских снимков вела фотолаборатория ЦК, а сам Лебедев в служебное время только рассматривал, сортировал и раскладывал негативы и карточки.)
В одном альбоме на фоне тех же книжных полок, где он только-что отснял меня, улыбались Шолохов и Михалков. Были места и для меня... Всё-таки Лебедев не предполагал, как жестоко во мне обманулся.
* * *
Но обманулся и я, что два года или хоть полгода есть у меня до забивки всех лазов. Пора моего печатания промелькнула, не успев и начаться. Масляному В. Кожевникову поручили попробовать, насколько прочно меня защищает трон. В круглообкатанной статье он проверил, допускается ли слетка тяпнуть "Матрёнин двор". Оказалось - можно. Оказалось, что ни у меня, ни даже у Твардовского никакой защиты "наверху" нет (уж Лебедев струхиватъ начал - зачем так тесно с нами сопрягся). Тогда стали выпускать друюго, третьего, сперва ругать рассказы, затем - и высочайше-одобренную повесть, никто не вступался.
Собственно, после лагерной выучки, эти нападки нисколько меня не задевали, не досаждали. Как говорится, людям тын да помеха, а нам смех да потеха. Напротив, в этой печати меня гораздо больше удивляло и позорило предыдущее непомерное восхваление. А теперь я вполне соглашался на ничью: гавкайте потихоньку да не кусайте, буду и я тихо сидеть. Рассуждая реально, моё положение было превосходно: с ракетной скоростью меня приняли в союз писателей и тем освободили от школы, поглощавшей столько времени; впервые в жизни я мог поехать жить за рекой при разливе или в осеннем лесу - и писать; наконец, я получал теперь разрешение работать в спецхране Публичной библиотеки - и сладострастно накидывался на те запретные книги. Просто грешно было обижаться на непечатанье: не мешают писать - чего ещё? Свободен - и пишу, чего ещё?
Раздвинулись сутки, раздвинулись месяцы, я стал писать непомерно много сразу - четыре больших вещи: собирал материалы к "Архипелагу" (на всю страну меня объявили зэкам, и зэки несли и рассказывали), к заветному главному моему роману о революции 17-го года (условно "Р-17"), начал "Раковый корпус", а из "Круга первого" надумал выцеживать главы для неожиданной когда-нибудь публикации, если представится.
Молчать! Молчать - казалось самое сильное в моём положении. Но не так легко молчать, когда ты связан с благожелательной редакцией. Всё-таки я понашивал туда кое-что для облегчения совести - не упустить возможностей. Как-то снёс несколько глав старой повести в стихах ("Шоссе Энтузиастов", тоже переиначенную и смягчённую), Твардовский справедливо отверг её. "Я понимаю, - говорил он, - в лагере надо же что-то писать, иначе мхом обрастёшь. Но..." Он волновался, не обижусь ли. Я успокоил:
- Александр Трифоныч! Даже если вы десять моих вещей отвергнете подряд, всё равно и одиннадцатую я принесу вам же.
Просиял, был доволен сердечно. А обещание моё оказалось пророческим: десять не десять, но почти столько пришлось мне ему стаскать прежде, чем выявилось, что он потерял на меня права.
Весной 1963-го я написал для журнала рассказ, которого внутренне мог бы и не писать: "Для пользы дела". Он как будто и достаточно бил и вместе с тем в нагнетённой обстановке после кремлевских встреч казался проходимым. Но писался трудновато (верный признак неудачи) и взял неглубоко. Тем не менее в "Новом мире" он встречен был с большим одобрением, на этот раз даже единодушным (недобрый признак!). А всё лишь потому, что укреплял позиции журнала: вот, проведя меня в литературу, они не сделали идеологической ошибки.
До того уж почувствовал журнал свои права на меня, что летом, пока я был в отъезде, Закс без моего ведома уступил цензуре из моего рассказа несколько острых выражений (вроде забастовки, которую хотят устроить студенты). Это был их частый прием и со многими авторами: надо спасать номер! надо, чтобы журнал жил! А если страдает при этом линия автора - ну, что за беда... Вернувшись, я упрекнул их горько. Твардовский принял сторону Закса. Им просто непонятно было, из чего принципиальничать? Подумаешь, пощипали рассказ! Мы, авторы "Нового мира", им рождены и ему должны жертвовать.
Противный осадок остался у меня от напечатания этого рассказа, хотя при нашей всеобщей запретности даже он вызвал много возбуждённых откликов. В этом рассказе я начинал сползать со своей позиции, появились струйки приспособления.
Не сразу я усвоил и воспитался, что и к дружественному "Н. Миру" надо относиться с обычной противоначальнической хитростью: не всегда-то и на глаза попадаться, сперва разведывать, чем пахнет. В этот приезд, в июле 63 г., пока я горячился из-за цензурных искажений, А. Т. тщетно пытался передать мне свою радость:
- Вы легки на помине, о вас был там разговор!
Я говорю - "радость", но по-разному бывал он радостен: чист и светел, когда здоров от своей слабости, а в этот раз - с мутными глазами, полумёртв, вызывал жалость (его лишь накануне лекарственным ударом вырвали из запоя, чтобы доставить в ЦК к Ильичёву). - И ещё ведь курил, курил, не щадя себя! Радость А. Т. была на этот раз в том, что он на заседании у Ильичёва ощутил некое "новое дуновение", испытал какие-то "греющие лучи". (А было это - просто очередное вихлянье агитпропа, манёвр. Но в бесправной унизительной жизни главного редактора опального журнала и при искренних толчках сердца о красную книжечку в левом нагрудном кармане, обречён был Твардовский падать духом и запивать от неласкового телефонного звонка второстепенного цекистского инструктора, и расцветать от кривой улыбки заведующего отделом культуры.)
Так вот что было там, на Старой Площади. "Подрабатывался" состав советской делегации в Ленинград на симпозиум КОМЕСКО (Европейской Ассоциации писателей) о судьбах романа, и вот А. Т. удалось добиться, чтобы включили в ту делегацию меня. (А потому Ильичёв и уступил, что для симпозиума была нужна декорация.)
Он договорить ещё не успел, я уже понял: ни за что не поеду! Вот из таких карусельных мероприятий и состоит жизнь писателя на поверхности... Недорогой способ нашли они показать меня Европе (да и какая там Европа собралась под крыльями Вигорелли!): в составе делегации, конечно единой во мнении, - а всякий выступ из общего мнения будет не только изменой родине, но ещё и предательством родного "Нового мира". Сказать, что действительно думаешь - невозможно. И рано. А ехать мартышкой - позор. Отклоня уже столько западных корреспондентов, должен был я свою линию вытягивать и дальше.