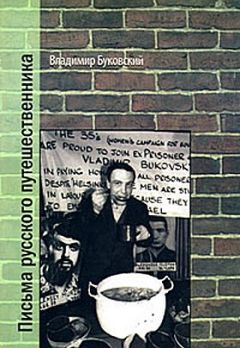Владимир Солоухин - Письма из Русского музея
Я смотрю на полотна Левицкого. Портреты. Исключений нет. Князь П. А. Голицын. Демидов. Князь П. Н. Голицын. Великая княгиня Александра Павловна, императрица Екатерина II. Ну и знаменитые его смолянки – портреты воспитанниц Смольного института благородных девиц.
Последовательно переходим к Боровиковскому. Портреты. Исключений нет. Жуковский, Капнист, Трощинский, Безбородко с дочерьми, Арсеньева…
Правда, у Боровиковского есть «Старик, греющий руки у огня. Зима». Он находится в Третьяковской галерее. Проблеск жанра. Робкая и, так сказать, чуть живая ласточка, зернышко, из которого вырастет ученик Боровиковского – Венецианов. Не в том смысле, что художество Венецианова складывалось под влиянием этой картины. Было бы очень просто. Но все же то, что для учителя было единоличным исключением, то для ученика сделается обыкновением и нормой.
Все три живописца, названные мною, – крупнейшие живописцы XVIII века. Три кита. Они, собственно, и есть XVIII век русской живописи. Хотя, конечно, существует и окружение: Никитин, Матвеев, Вишняков, Антропов, Аргунов, Лосенко… У каждого свои достоинства. Тот – колорист, у этого смелее, чем у других, рисунок. Тот лучше других умеет уловить характер. Специалисты умеют будто бы, когда попадает к ним в руки неизвестно кем написанный портрет, определить и отнести его именно к Рокотову, а не к Боровиковскому или к Левицкому. Но нам-то с вами никогда не постигнуть живописи так глубоко и с такой тонкостью. Для нас, напротив, все художники XVIII века – единообразны. Ну, смолянок, конечно, не спутаешь, и портрет Лопухиной не отнесешь к Рокотову. Эти вещи выделяются резко и решительно. Скажу больше, когда я стал более внимательно присматриваться, когда я стал читать о художниках и о их живописи, то я начал понемножку отличать, допустим, легкую манеру Рокотова от добросовестности Левицкого, игривость Боровиковского от трезвой ясности Антропова, либо выделять из всех остальных эти самые «рокотовские» глаза. Но я хотел бы остановиться вовремя. Искусство нужно воспринимать дилетантски, так, как его воспринимает большинство людей, тех людей, для кого оно, собственно, и создается. Если это, конечно, не та степень, когда про Венеру говорят: «Какая-то голая баба, а кругом кусты».
Нам не постигнуть в живописи той тонкости, когда не видят ничего, кроме сочетаний лилового с розоватым в левом верхнем углу либо темно-вишневого с серым в нижней части картины.
Может быть, даже интереснее вглядываться в эти лица, в эти позы, в эти глаза. Вот жили люди. Вот, оказывается, какие они были. Великие князья, царедворцы, поэты, семьянины, любовники и любовницы. Вот их гордость, вот их нега, вот их самодовольство, вот их строгость. Вот, собственно, их душа. Ведь даже Н. Заболоцкий, на что глубокий и тонкий знаток и ценитель живописи, вовсе ничего не написал о колористических особенностях живописи Рокотова, а написал, я вам напомню, следующее стихотворение;
Любите живопись, поэты,
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас.
Ее глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач.
Ее глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.
Впрочем, Рокотов был превосходный колорист. Именно поэтому так живы до сих пор глаза Струйской. Нет, что ни говорите, разве не интересно встретиться взглядом с Шуваловым, Репниным, Уваровой, какой-нибудь там Новосильцевой, какой-нибудь там Борятинской (кажется, бабушка пленителя Шамиля?), ну и вплоть до императрицы?
Восемнадцатый живописный век. Он перехлестнул свои границы и начало девятнадцатого, не предрешая последующих бурных и великих десятилетий, не обещая ни Сурикова, ни Верещагина, ни Иванова, ни Крамского. Портреты. Поворот головы направо, поворот головы налево. Скупой, но не похожий на другие жест руки изображаемой персоны считается чуть ли не новаторством, своеобразием во всяком случае. Бархат, атлас, шелк. Высокие пышные прически, парики. Тяжелая драпировка фона. Декоративные обломки античных колонн. Переходишь из зала в зал, от художника к художнику; взгляд привычно начинает скользить более поверхностно и легко и вдруг почти спотыкнешься. Уже не нарочитый, а живой интерес появится в приутомленных глазах. В душе поднимается что-то вроде ликующего взвизга, как если бы за чинным столом, за которым вам уж скучновато, вдруг кто-нибудь встал и сказал бы какую-нибудь бесшабашную дерзость.
В это время, если вас и потянут ваши спутники за рукав, вы нетерпеливо отмахнетесь, потому что теперь хочется разглядеть – нельзя отойти, не разглядев. Да и спутники не потянут за рукав – реакция на увиденное будет одна и та же.
Да. Перед нами дерзость или чудачество? Или это, может быть, и называется теперешним словечком «новаторство»? Так или иначе, если брать нашу живопись, этот первый волнующий, вольный и невольный, может быть, проблеск национального самосознания. Впрочем, писал уж двадцатилетний Пушкин, и вот уж восемь лет, как иноземное нашествие отражено, рассеяно и выброшено из пределов России.
Есть формула: «Новое рождается в недрах старого». И существует понятие: «террор среды». Когда все делают нечто тождественное, трудно кому-нибудь одному начать делать непохожее на остальных. Коварная суть «террора среды» состоит в том, что никто не запрещал, не обязывал, не принуждал. Разве что раскритикует какая-нибудь газета да позлословят в модном салоне. Но ведь каждый человек с младенчества воспитывается в той среде, которая его окружает. Формируется склад ума, вкус, основные понятия. Значит, у истинного художника (а истинный художник всегда, рождаясь, преодолевает «террор среды») должно хватить своеобразия и мужества, чтобы сначала сохранить особенный склад ума и свои особенные понятия, а потом привести их в действие и разорвать тягучую оболочку сущего. Процесс не преднамеренный в том смысле, что никто не задается конкретной целью «преодолевать «террор среды». Художник делает то, что он считает нужным и должным, остальное зависит от характера его дарования и от личных качеств: либо он остается в рамках «притяжения», либо вырывается из его тисков.
У нас будет возможность проследить этот удивительный процесс на трех огромных художниках, но пока ни один из них еще не народился на свет, и роль новатора, сладостная тяжесть этой роли опускается на плечи скромного и тихого молодого человека, отец которого торговал в Москве кустами «самой крупной и в варку весьма годной белой смородины».
Впрочем, пока Алексей Гаврилович молод, он не новатор. Он вот именно пытается делать то, что принято делать в его время – писать портреты. Он пишет портрет своей матери (1801 год), портрет молодого человека в испанском костюме (1804 год), портрет неизвестного с газетой (1807 год), портрет А. И. Бибикова (1805-1807 годы), портрет Головачевского с тремя воспитанниками Академии художеств (1811 год), портрет Фонвизина (1812 год), портрет Воронова (начало двадцатых годов).
Он мог бы написать еще сто или сто пятьдесят портретов. Никто бы, может быть, не упоминал его имени не только что пятьдесят лет спустя, но и при жизни, потому что Рокотов, Левицкий и непосредственный учитель молодого художника Боровиковский писали портреты лучше. И если даже я теперь непростительно преувеличиваю, если он не на много уступал в конце концов этим трем китам, если бы даже он вовсе не уступил им, а сравнялся бы с ними в мастерстве, – все равно он, вероятно, не сказал бы нового, своего слова. Было бы больше одним Боровиковским, но не было бы у нас Венецианова.
Внешний повод к решительному перелому и повороту – ничтожен и смешон. Алексей Гаврилович увидел поступившую в Эрмитаж картину Франсуа Грана «Внутренний вид капуцинского монастыря в Риме». Но между прочим, вот вам разительный пример того, что искусству вредны государственные границы. Как ругали потом императорскую Академию художеств, но все-таки лучших своих учеников она неизменно отправляла в заграничные поездки не на три недели, как ездят сейчас наши художники, а на два-три года, потому что, прежде чем сделать что-нибудь свое, художник должен осмыслить то, что уже сделано и к чему возвращаться не должно.
Итак, микроскопическое внешнее обстоятельство – картина Гранэ в Эрмитаже. Более месяца русский художник, воспитанный на копировании в том же Эрмитаже, ежедневно сидел перед этой картиной. Вот как он сам говорит об этом: «Сия картина произвела сильное движение в понятии нашем о живописи. Мы в ней увидели совершенно новую часть ее, до того времени в целом не являвшуюся: увидели изображение предметов не подобными, а точными, живыми; не писанными с натуры, а изображающими саму натуру… Некоторые артисты уверяли, что в картине Гранета фокусное освещение – причина всего очарования и что полным светом, прямо освещающим, никак невозможно произвести сего разительного оживотворения предметов, ни одушевленных ни вещественных. Я решился победить невозможность, уехал в деревню и принялся работать. Для успеха в этом мне надо было совершенно оставить все правила и манеры, двенадцатилетним копированием в Эрмитаже приобретенные, а приняться за средства, употребляемые Гранетом, – и они мне открылися в самом простом виде, состоящем в том, чтобы ничего не изображать иначе, чем в натуре является, и повиноваться ей одной, без примеси манеры какого-либо художника, т. е. не писать картину а-ля Рембрандт, а-ля Рубенс и прочее, но просто, как бы сказать, а-ля натура.