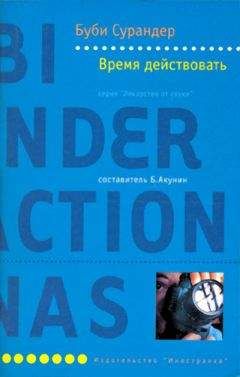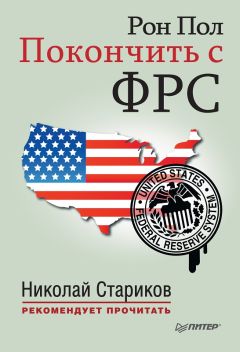Борис Зайцев - Том 4. Путешествие Глеба
– Смотри, Сима идет к нам.
По самому краю прибрежья, совсем у воды, в белой накидке, с зонтиком, в белых туфлях быстро шла в направлении к ним Сима. Увидев их, вынула белый платочек и, высоко подняв над головой, помахала. Элли ответно салютовала.
– Два дружественных корабля приветствуют друг друга в море, – сказал Глеб, улыбаясь.
И они пошли навстречу Симе.
Май, 1952
Приложение
О себе*
…Я начал с импрессионизма. Именно тогда, когда впервые ощутил новый для себя тип писания: «бессюжетный рассказ-поэму», с тех пор, считаю, и стал писателем. Мучительны томления юности, когда себя ищешь, не находишь, временами отчаиваешься, впадаешь во мрак и все кажется бессмысленным. Но уж, очевидно, через это надо пройти.
Мне было около двадцати лет. Писать хотелось, внутреннее давление росло. Но я знал, что не могу писать так, как тогда писали в толстых журналах «повести и рассказы». Долго довольно ходил вокруг да около, и наконец «это» пришло. Разумеется, новое уже носилось в воздухе. И собственная душа была уже душой XX-го, а не XIX-го века. Надо было только нечто в ней оформить.
Я возвращался однажды весною в Москву из Царицына, дачной местности, где жил Леонид Андреев. Мы только что познакомились. Провели с ним целый вечер на его даче, на опушке березового леса, были молоды, возбуждены, что-то ораторствовали о литературе; барышни, сестры его, в светлых летних платьицах, слушали нас почтительно, разливая чай на террасе, при благоухании нежных берез, гудении жуков майских. Потом в теплой мгле ночи он меня провожал. И вот поезд помчал меня к Москве. Я стоял у окна и смотрел, в волнении и почти восторге. Поезд прогрохотал по мосту над рекой, туман расползался над лугами. Вдалеке блестела огнями Москва. Легкое зарево стояло над ней.
У этого вагонного окна я и почувствовал ритм, склад и объем того, что напишу по-новому. Нечто без конца-начала – о грохоте поезда, тумане, звездах, лугах, никак не «повесть» для журнала «Русская мысль» – попытка бегом слов выразить впечатление ночи, поезда, одиночества.
Записал я это на другой день. А через месяц Леонид Андреев напечатал мою «Ночь» в газете.
Она и определила раннюю полосу моего писания. Впрочем, может быть, составной частью прошла и через все.
Первая моя книжка вышла в 1906 г. в Петербурге. Вся она, как из зерна, выросла из этой «Ночи», хотя самую «Ночь» я забраковал – казалась она мне слишком слабо написанной.
Теперь, издали, так могу определить раннее свое писание: чисто поэтическая стихия, избравшая формой не стихи, а прозу. (Поэтому и проза проникнута духом музыки. В то время меня нередко называли в печати «поэтом прозы».) Это основное, «природное», свое. Оно оправлено влияниями литературными – вырастаешь в известном воздухе. Воздух тогдашний наш был – появление символизма в России (собственного) и усиление влияния западного символизма – преимущественно французского. Очень ценили у нас Бодлэра, Верлэна, Метерлинка, Верхарна. Мне лично нравился тогда Роденбах. В северных литературах – Ибсен, Гамсун. Среди же своих – Бальмонт, Брюсов были на первом плане, Федор Сологуб, Леонид Андреев.
Не могу сказать, чтоб какой-нибудь отдельный писатель – русский или иностранный – наложил печать на мою молодость литературную, но вот атмосфера известная была и, наверно, действовала. Для внутреннего же моего мира, его роста, Владимир Соловьев был очень, очень важен. Тут не литература, а приоткрытие нового в философии и религии. Соловьевым зачитывался я в русской деревне, в имении моего отца, короткими летними ночами. И случалось, косари на утренней заре шли на покос, а я тушил лампу над «Чтениями о Богочеловечестве». Соловьев первый пробивал пантеистическое одеяние моей юности и давал толчок к вере.
Все это, вместе взятое, – и литература, и философия – возбуждало и толкало. Замечательным вдохновителем, несколько позже, оказалась также Италия. С ней впервые я встретился в 1904 г. – а потом не раз жил там – и на всю жизнь вошла она в меня: природой, искусством, обликом народа, голубым своим ликом. Я ее принял как чистое откровение красоты. Тогда же полюбил двух спутников моих навсегда – Данте и Флобера.
Когда сейчас перелистываешь написанное до революции и следишь за своим изменением во времени, то картина получается такая: возбужденность первых годов понемногу стихает. Стремишься несколько расшириться, ввести в круг писания своего не только природу, стихию, но и человека – первые попытки психологии (но всегда с перевесом поэзии). Отходит полная бессюжетность. Вместо раннего пантеизма начинают проступать мотивы религиозные – довольно еще невнятно («Миф», «Изгнание») – все же в христианском духе. Этот дух еще ясней чувствуется в первом романе «Дальний край» (1912), полном молодой восторженности, некоторого прекраснодушия наивного – Италия вносит в него свой прозрачный звук. Критик назвал бы «Дальний край» романом «лирическим и поэтическим» (а не психологическим). К этой же полосе относится пьеса «Усадьба Ланиных», с явным оттенком тургеневско-чеховского (всегда внутренно автору родственного), и также с перевесом мистического и поэтического над жизненным.
Великая война внешне не отразилась на моем писании. Внутренно же эти годы отозвались ростом спокойной меланхолии (кн. расск. «Земная печаль»), еще ближе подводившей к Тургеневу и Чехову.
В 1918 г., в самом начале революции, появилась повесть, которую я считаю самой полной и выразительной из первой половины моего пути – «Голубая звезда». Она прозрачнее и духовней «Земной печали». Вместе с тем это завершение целой полосы, в некотором смысле и прощание с прежним. Эту вещь могла породить лишь Москва, мирная и покойная, послечехов-ская, артистическая и отчасти богемная, Москва друзей Италии и поэзии – будущих православных.
Дореволюционное – и в форме, и в содержании кончилось. Странным образом революция, которую я всегда остро ненавидел, на писании моем отозвалась неплохо. Страдания и потрясения, ею вызванные, не во мне одном вызвали религиозный подъем. Удивительного в этом нет. Хаосу, крови и безобразию противостоит гармония и свет Евангелия, Церкви. (Само богослужение есть величайший лад, строй, облик космоса.) Как же человеку не тянуться к свету? Это из жизни души. Из жизни же чисто художнической: если бы сквозь революцию я не прошел, то, изжив раннюю свою манеру, возможно, погрузился бы еще сильней в тургеневско-чеховскую стихию. Тут угрожало бы «повторение пройденного».
Годы же трагедий все перевернули, удивительно «перетрясли». Писание (в ближайшем времени) направилось по двум линиям, довольно разным: лирический отзыв на современность, проникнутый мистицизмом и острой напряженностью («Улица св. Николая»), – и полный отход от современности: новеллы «Рафаэль», «Карл V», «Дон-Жуан», «Души Чистилища». Ни в них, ни в одновременно писавшейся «Италии» нет ни деревенской России, ни помещичьей жизни, ни русских довоенных людей, внуков тургеневских и детей чеховских. Да и вообще русского почти нет. В самый разгар террора, крови, автор уходит, отходит от окружающего – сознательно это не делалось, это просто некоторая evasion, вызванная таким «реализмом» вокруг, от которого надо было куда-то спастись.
Не могу тут не вспомнить чтения «Рафаэля» – в саду особняка покойной Е. И. Лосевой, собиравшей вокруг себя поэтов, художников, писателей. Был удивительный майский день 1919 года. Я читал за столом, вынесенным из дома под зеленую сень, в оазисе среди полуразоренной и полуголодной Москвы, в остатке еще человеческой жизни, среди десятка людей элиты – слушателями были, кроме хозяйки, Вячеслав Иванов, Бердяев, Георгий Чулков. Помню, когда я закончил, солнце садилось за Смоленским бульваром. А часы показывали полночь, время было передвинуто вперед на четыре часа. Помню удивительное ощущение разницы двух миров – нашего, с этим золотящимся солнцем, и другого.
В 1922 г. я покинул Россию. Началась вторая половина жизни и писания моего.
То религиозное настроение, которое смутно проявлялось и ранее, в ударях же революции возросшее особенно, продолжало укрепляться. Первой крупной вещью в эмиграции был роман «Золотой узор». Он полон откликов «Ада» жизни тогдашней. В нем довольно ясна религиозно-философская подоплека – некий суд и над революцией и над тем складом жизни, теми людьми, кто от нее пострадал. Это одновременно и осуждение и покаяние – признание вины. Характерна и небольшая дальнейшая работа: «Преподобный Сергий Радонежский» – жизнеописание знаменитого русского святого 14-го века. Разумеется, тема эта никак не явилась бы автору и не завладела бы им в дореволюционное время.
Вообще годы оторванности от России оказались годами особенно тесной с ней связи в писании. За ничтожными исключениями все написанное здесь мною выросло из России, лишь Россией и дышит. В произведениях моих первых лет зарубежья много отголосков пережитого в революцию. Далее – тон большего спокойствия и объективности.