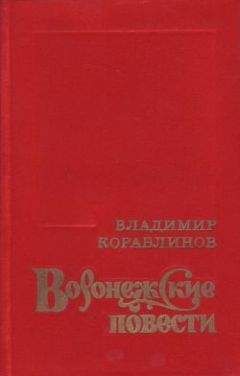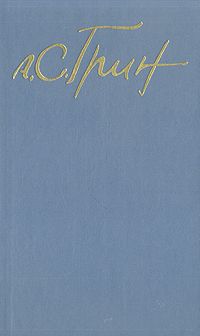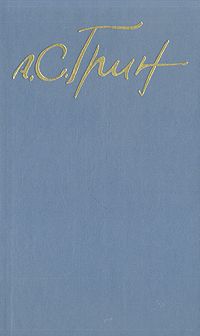Александр Грин - Том 3. Рассказы 1917-1930. Стихотворения
О чем пела ласточка*
Как-то раз в кругу семейном, за вечерним самоваром
Я завел беседу с немцем – патриотом очень ярым.
Он приехал из Берлина, чтобы нам служить примером –
С замечательным пробором, кодаком и несессером.
Он привез супругу Эмму с «вечно женственным», в кавычках,
С интересом к акушерству и культурностью в привычках.
Разговор как подобает все вокруг культуры терся…
На германском идеале я застенчиво уперся.
Снисходительной усмешкой оценив мою смиренность,
Он сказал: «Мейн герр, прошу вас извинить за откровенность,
Чтоб понять вы были в силах суть культурного теченья,
Запишите на блокноте золотое изреченье.
Изреченье – излеченье от экстаза и от сплина:
Дисциплина – есть культура, а культура – дисциплина.
Дети, кухня, кирха, спальня – наших женщин обучают;
Дисциплина, кайзер, пфенниг – им в мужчинах отвечают.
Идеал национальный мы, конечно, ставим шире:
От Калькутты до Марселя, от Марселя до Сибири.
Вы народ своеобразный, импульсивно-неприличный,
Поэтически-экстазный и – увы – нигилистичный.
Гоголя и Льва Толстого изучал я со вниманьем…
Поразительно! Писали с несомненным прилежаньем…»
Я пустил в него стаканом (ты б стерпеть, читатель, смог ли?).
Он гороховые брюки подтянул, чтоб не подмокли.
И, картинно улыбаясь, молвил: «Пятна от тэина
Выводить рекомендую только с помощью бензина».
P. S. Стиль подделываю Гейне с тем намеком, что за Вислой
Сей талант великолепный признают с усмешкой кислой.
А поэтому полезно изучать, для просвещенья:
В людоедских прусских школах все его произведенья.
Эстет и щи*
Однажды случилось, что в неком эстете
Заснула душа.
Вздремнула, заснула и в сне потонула,
Забыв все на свете,
Легонько и ровно дыша.
Здесь следует оговориться,
Пока душе эстета спится:
Что значит, собственно, эстет?
Ответ:
Эстет – кошмарное, вульгарное созданье,
Природы антраша и ужас мирозданья.
Он красоту – красивостью сменил,
Его всегда «чарующе» манил
Мир прянично-альфонс-ралле картинок,
Альбомов и стихов, духов, цветов, ботинок;
Его досуг – о женщине мечты;
Его дневник – горнило красоты;
Штаны – диагональ, пробор – мое почтенье,
Излюбленный журнал, конечно, «Пробужденье»…
Короче говоря –
От января до января –
Ходячая постель, подмоченная гнилью
С ванилью.
Словцо в сердцах, читатель, сорвалось,
Авось
Его редактор не заметит,
Сквозь пальцы поглядит… иль так… в уме отметит.
Ну, далее… Эстета на войну Берут; стригут
пробор, отвозят за Двину,
За Вислу – и пошло. Эстет зубную щетку
Молитвенно хранит и порошка щепотку
От крыс, клопов и блох. И зеркальце при нем
Последний дар души, что ночью спит и днем.
Эстетово в окопах тело
Обтерлось, наконец, и кашу лупит смело,
Хоть ранее поворотило б нос
От рубленных котлет (от отбивных – вопрос).
Однажды, после перехода,
К позиции подъехала подвода
С походной кухней. Хлещет щи эстет…
Проснулась вдруг душа, скорбит, а он в ответ:
«Коль щей не буду есть – умру, прощай, красивость
Смири, душа, спесивость!»
Тогда души услышал он слова:
«Пустая голова!
О том лишь я скорблю, что щей осталось мало,
А то я б за двоих душевно похлебала!»
Мораль обязан я сей басни показать:
Щи были хороши; душа же – как сказать?..
Письмо литератора Харитонова к дяде в Тамбов*
Я, милый дядя, безутешен,
Мое волнение пойми:
Военным я рассказом грешен:
«О немце, – написал, – в Перми»…
Я пал, и пал довольно низко,
И оправданий не ищу;
Пал как голодная модистка
С желудком, воззванным к борщу.
Пусть те, кто в этом черном деле
Готовы благосклонно ржать,
Кричат, что нужно в черном теле
Литературу содержать!
Пиши, журнальный пролетарий,
«Окопы» эти – без числа,
Но рассмотри, какой динарий
Тебе фортуна поднесла.
Конечно, в повседневном звоне
Он принесет насущный прок,
Но обожжет тебе ладони
И в горле встанет поперек.
Ведь эта подлая монета,
Оплата скромных жвачных блюд,
Цена бифштекса и омлета –
Мзда за невежество и блуд.
Когда ты, черт, сидел в траншее?
Когда в атаку ты ходил?
Ты только, не жалея шеи,
В энциклопедии удил!
Я, дядя, пал довольно низко
И оправданий не ищу,
Но, опростав борщную миску,
Пищеварительно дышу.
А тем, кто сделал из искусства
Колючей проволоки ряд,
Все человеческие чувства
Проклятье черное вопят.
Порыв*
Судомойка из трактира,
Прочитав лихой роман:
«Дон-Формозо и Эльвира», –
На пятак взяла румян.
Перед зеркалом постой-ка,
Горемыка-судомойка!
Щеки бледные накрась,
Не ударь портретом в грязь!
Вышла… Где ты, Дон-Формозо,
Ночью спившийся в бреду?
Приходи с мечом и розой.
Я тебя, Эльвира, жду.
Встреча. Галстучек. Цепочка.
Котелок. Пенсне. Усы.
«Дон» забыт, и злая точка
Кроет стыдные часы.
Критик, взглядом бойким, смелым,
Рассмотрев себя на свет,
Вдруг нашел, что в общем, в целом
Он не критик, а поэт.
Дело в шляпе. Вот поэма
Шевелится в голове:
Как шпионка-немка Эмма
С горя топится в Неве.
Пишет, а рука привычно
Отмечает на полях:
«У NN'a неприлично
Издан желтый альманах;
С.А.Б. не знает быта;
Л.К.К. украл сюжет;
Из готового корыта
Пьет такой-то вот поэт…»
Глядь, набросана статейка,
«Эмма» где-то в стороне,
И безрадостен, как вейка,
Добролюбов на стене.
Не ищите здесь морали,
Надо всем никто, как бог;
Мы бесхитростно писали
С легкой помощию ног.
Работа*
Каждый день, по воле рока
Я, расстроенный глубоко,
За столом своим сижу,
Перья, нервы извожу.
Подбираю консонансы,
Истребляю диссонансы,
Роюсь в арсенале тем
И строчу, строчу затем.
Где смешное взять поэту?
Уязвить кого и как?
«Минну»? «Карла»? «Турка»? «Грету»?
Или бюргера колпак?
Но теперь по белу свету
То высмеивает всяк.
Есть «удушливые газы».
Можно высмеять бы их,
Но, припомнив их проказы,
Я задумчиво притих:
Слишком мрачные рассказы
Для того, чтоб гнуть их в стих.
Хорошо. Войны не трону.
Но, желая гонорар,
Я пошлю «Сатирикону»
Мелочную злобу в дар.
И, имен не называя,
Всех приятелей своих
Так облаю, лая, хая,
Что займется дух у них.
Тот – бездарен; этот – грешен;
Этот – глуп; а этот – туп;
Этот – должен быть повешен;
Этот – просто жалкий труп.
Только я – идейно честен,
Сверхталантлив и красив,
Только мне всегда известен
Вдохновения прилив!
Храбрый я, – Аника-воин!
Вы – прокисли? Ничего…
Всяк трудящийся достоин
Пропитанья своего…
Снопы*
Последний раз сверкнул над хлебом серп.
Последний сноп подобран у коряги.
Жнецы ушли. У серебристых верб
Блестит луна. Тревожно спят овраги.
Как павшими, усеяны поля
Снопами грязными, их колосом лучистым.
Тяжелый труд. Тяжелая земля.
Тяжелый вздох под горизонтом мглистым.
Оборванный, без шапки, босиком
Бродил помешанный, шепча свои заклятья,
И на меже, невидимый, тайком
К снопам простер безумные объятья.
Он не взял у деревни ни зерна.
Зачем ему? Задумчивая гостья –
Луна – во власти голубого сна, –
Взял васильки и разбросал колосья.
Истоптан хлеб, поруган тяжкий труд,
А васильки завязаны снопами.
Усталые, к заре теперь придут,
Твердя: «Нечистый подшутил над нами».
О поле, поле! Или никогда
Ты не возьмешь на рамена иные
В одной руке – веселый вздох труда
И хлеб земной, и васильки земные?
Спор*