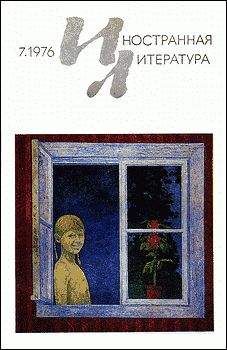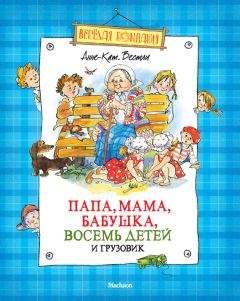Александр Фадеев - Молодая гвардия
В это время Сережка с отвисшей рукой в окровавленном рукаве, без оружия, стучался в оконце крайней хаты с другого конца хутора.
Нет, судьба не судила ему погибнуть на этот раз. Он долго лежал в грязном, мокром снегу, посреди того хутора у разъезда, пока не угомонились немцы. Нельзя было надеяться, что свои вновь ворвутся на хутор этой ночью. Надо было уходить, уходить в сторону от фронта. Он был в штатском, оружие можно было оставить здесь. Не впервой ему пробираться сквозь вражеское расположение!
Стояла неясная предутренняя муть, когда он с трудом, волоча раненую руку, переполз железную дорогу. В такой час в избе уже встает добрая хозяйка и зажигает светец до рассвета. Но добрые хозяйки сидели в подвалах со своими детишками.
Сережка отполз от железной дороги метров сто, потом встал и пошел. Так он добрел до этого хутора.
Девушка с русой косою, только что принесшая воду в ведре, сделала ему перевязку, распоров что-то из старья, замыла окровавленный рукав и затерла золой. Хозяева так боялись, что вот-вот нагрянут немцы, даже не накормили Сережку горячим, а только дали ему кое-что с собой.
И Сережка, не славший всю ночь, пошел по хуторам вдоль фронта - искать Валю.
Как это часто бывает в донецкой стели, погода опять переломилась на зиму. Повалил снег, он уже не таял. Потом ударил мороз. В последних числах января Феня, сестра Сережки, жившая своей отдельной семьей, пришла как-то с рынка и застала дверь запертой.
- Мама, ты одна? - спросил из-за двери ее старший сынишка.
Сережка сидел у стола, облокотившись одной рукой, другая висела. Он всегда был худ, а теперь и вовсе слал с лица, ссутулился, только глаза его встретили сестру с прежним, живым и деятельным выражением.
Феня рассказала ему об аресте в Центральных мастерских и о том, что большая часть "Молодой гвардии" в тюрьме. Она знала уже от Марины и об аресте Кошевого. Сережка сидел молча, глаза его страшно блестели. Через некоторое время он сказал:
- Я уйду, не бойся...
Он чувствовал, что Феня беспокоится и за него и за своих детей.
Сестра сделала ему перевязку. Переодела его в женское платье, а то, что было на нем, сложила в узелок и в сумерках проводила его домой.
Отца после лишений, перенесенных в тюрьме, так скрючило, что он почти все время лежал в постели. Мать еще крепилась. Сестер не было - ни Даши, ни любимой Нади: они тоже ушли куда-то в сторону фронта.
Сережка стал расспрашивать: не слыхали ли, где Валя Борц?
За это время родители молодогвардейцев сблизились между собой, но Мария Андреевна ничего не говорила матери Сережки о своей дочери.
- А там ее нет? - мрачно опросил Сережка.
Нет, в тюрьме Вали не было: это они знали наверное.
Сережка разделся и впервые за целый месяц лег в чистую постель, в свою постель.
Коптилка горела на столе. Все было такое же, как во времена его детства, но он ничего не видел. Отец, лежа в соседней горенке, кашлял так, что стены тряслись. А Сережке казалось, что в горенке неестественно тихо: не было привычной возни сестер. Только маленький племянник ползал в горенке у "деда" по земляному полу и лепетал про что-то свое.
Мать вышла по хозяйству. В горенку "деда" вошла соседка, молодая женщина. Она заходила почти каждый день, а родители Сережки по своей душевной наивности и чистоте никогда не задумывались над тем, почему она так зачастила к ним. Соседка зашла и разговорилась с "дедом".
Ребенок, ползавший по полу, подобрал что-то и пополз в горницу к Сережке, лепеча:
- Дядя... дядя...
Женщина мельком заглянула в горницу, увидела Сережку, потом еще поговорила с "дедом" и ушла.
Сережка свернулся на койке и затих.
Мать и отец уже спали. Темно и тихо было в доме, а Сережка все не спал, томимый тоскою...
Вдруг сильный стук раздался в дверь со двора:
- Отворяй!..
Еще секунду тому назад казалось, что та неугомонная сила жизни, которая вела его через все испытания, уже навсегда оставила его, казалось, он был сломлен. Но в то же мгновение, как раздался этот стук, тело его сразу стало гибким и ловким и, бесшумно выскочив из постели, он подбежал к оконцу и чуть приподнял уголок затемнения. Все было бело вокруг. Все было залито ровным сиянием луны. Не только фигура немецкого солдата с автоматом наизготовку, стоявшего у окна, даже тень солдата были словно вырезаны на снегу.
Мать и отец проснулись, испуганно переговорили спросонья и притихли, прислушиваясь к ударам в дверь. Сережка одной рукой, как он уже привык, надел штаны, рубаху, обулся, только не смог завязать кожаные шнуры красноармейских ботинок, выданных ему в дивизии, и вышел в горницу, где спали мать и отец.
- Откройте кто-нибудь, света не зажигайте, - тихо сказал он.
Мазанка, казалось, вот-вот рассыплется от ударов.
Мать заметалась по комнате, она совсем потеряла себя.
Отец тихо встал с постели, и по его молчаливым движениям Сережка чувствовал, как старику тяжело двигаться, как ему тяжело все это.
- Нечего делать, придется открывать, - сказал отец странным тонким голосом.
Сережка понял, что отец плачет.
Отец, стуча клюшкой, вышел в сени и сказал:
- Сейчас, сейчас...
Сережка неслышно выскользнул за отцом.
Мать грузно выбежала в сени и что-то там тронула металлическое, и вроде пахнуло морозным воздухом. Отец открыл наружную дверь и, придерживая ее, отступил в сторону.
Три темные фигуры, одна за другой, вошли в сени из прямоугольника лунного света. Последний из вошедших прикрыл за собой дверь, и сени осветились прожектором сильного электрического фонаря. Луч упал сначала на мать, которая стояла в глубине, у двери, ведущей из сеней в пристройку сарай для коровы. Сережка из своего темного угла увидел, что крючок на двери в сарай откинут и дверь полуоткрыта, и понял, что мать это сделала для него. Но в это мгновение свет прожектора упал на отца и на Сережку, спрятавшегося за его спиной: Сережка не думал, что они осветят сени фонарем, и надеялся выскользнуть во двор, когда они пройдут в горницу.
Двое схватили его за руки, Сережка вскрикнул, такою болью отозвалась раненая рука. Его втащили в горницу.
- Зажги свет! Чего стоишь, как молодая роза! - закричал Соликовский на мать.
Мать трясущимися руками долго не могла зажечь коптилку, и Соликовский сам чиркнул зажигалку. Сережку держали солдат-эсэсовец и Фенбонг.
Мать, увидев их, зарыдала и упала в ноги. Большая, грузная, она ползла, перебирая по земляному полу круглыми, старческими руками. Старик стоял, согнувшись до земли, опершись на клюку, и его всего трясло.
Соликовский произвел поверхностный обыск, - они уже не раз обыскивали квартиру Тюлениных. Солдат вытащил из кармана штанов веревку и стал скручивать Сережке руки позади.
- Сын один... пожалейте... возьмите все, корову, одежду.
Бог знает, что она говорила... Сережке так до слез было жаль ее, что он боялся сказать хоть что-нибудь, чтобы не расплакаться.
- Веди, - сказал Фенбонг солдату.
Мать мешала ему, и он брезгливо отодвинул ее ногою.
Солдат, подталкивая Сережку, пошел вперед, Фенбонг и Соликовский за ним. Сережка обернулся и сказал:
- Прощай, мама... Прощай, мой отец...
Мать кинулась на Фенбонга и стала бить его своими все еще сильными руками, крича:
- Душегубцы, вас убить мало! Обождите, вот придут наши!..
- Ах ты... опять туда же захотела! - взревел Соликовский и, несмотря на хриплые срывающиеся просьбы "деда", поволок Александру Васильевну в старом платье-капоте, в каком она всегда спала, на улицу.
"Дед" едва успел выбросить ей пальто и платок.
Глава шестьдесят четвертая
Сережка молчал, когда его били, молчал, когда Фенбонг, скрутив ему руки назад, вздернул его на дыбу, молчал, несмотря на страшную боль в раненой руке. И, только когда Фенбонг проткнул ему рану шомполом, Сережка заскрипел зубами.
Все же он был поразительно живуч. Его бросили в одиночную камеру, и он тотчас же стал выстукивать в обе стороны, узнавая соседей. Поднявшись на цыпочки, он обследовал щель под потолком - нельзя ли как-нибудь расширить ее, выломать доску и выскользнуть хотя бы во двор тюрьмы: он был уверен, что уйдет отовсюду, если вырвется из-под замка. Он сидел и вспоминал, как расположены окна в помещении, где его допрашивали и мучили, и на замке ли та дверь, что вела из коридора во двор. Ах, если бы не раненая рука!.. Нет, он не считал еще, что все потеряно. В эти ясные морозные ночи гул артиллерии на Донце слышен был даже в камерах.
Наутро сделали очную ставку ему и Витьке Лукьянченко.
- Нет... слыхал, что живет рядом, а никогда не видал, - говорил Витька Лукьянченко, глядя мимо Сережки темными бархатными глазами, которые только одни и жили на его лице.
Сережка молчал.
Потом Витьку Лукьянченко увели, и через несколько минут в камеру, в сопровождении Соликовского, вошла мать.
Они сорвали одежды со старой женщины, матери одиннадцати детей, швырнули ее на окровавленный топчан и стали избивать проводами на глазах у ее сына.