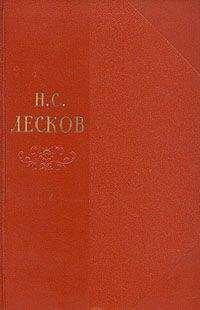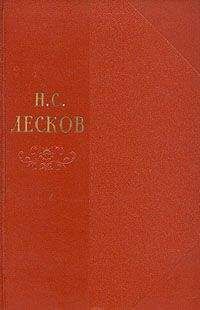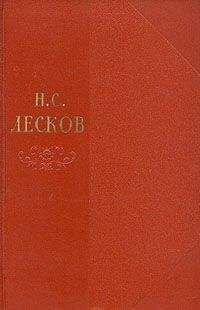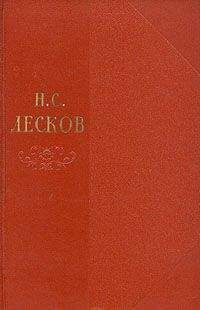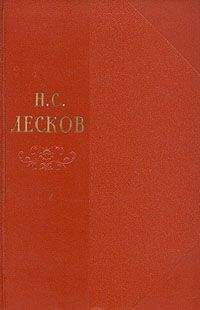Николай Лесков - Том 2
Гражданкам не понравилась Ольга Александровна. Бертольди сказала, что это фаля нетленная, а прочих Ольга Александровна изумляла своею с первого шага худо скрываемою обидчивостью и поразительнейшим невежеством. В первый же день своего прибытия, при разговоре об опере «Юдифь»*, она спросила: в самом ли деле было такое происшествие или это фантазия? и с тех пор не уставала утешать серьезно начитанных гражданок самыми непостижимыми вопросами. Утром на пятый день своей гражданской жизни Ольге Александровне стало уж очень грустно и непереносно. Она ушла помолиться в Казанский собор, поплакала перед образом богоматери, переходя через улицу, видела мужа, пролетевшего на своих шведочках с молодою миловидною Полинькою, расплакалась еще больше и, возвратившись совершенно разбитая домой, провалялась до вечера в неутешных слезах, а вечером вышла веселая, сияющая и разражающаяся почти на всякое даже собственное слово непристойно громким хохотом. К ночи с ней сделалась истерика, и Белоярцев начал за ней ухаживать.
— Однако наша Юдифь, кажется, начинает кокетничать, — заговорила Бертольди.
— Со злости, — замечала Ступина.
— Да, это бывает, — подсказала Каверина. — Рок милосерд к Белоярцеву, про его долю не забывается.
— Да, — проговорила, потянувшись на кресле, Ступина. — Это вот только, как говорят у нас на Украине: «do naszego brzega nie plynie nic dobrego»,[83] — и пошла в свою холодную комнату.
В девятый день Лизиного исчезновения из Петербурга, часа в четыре пополудни, Евгения Петровна сидела и шила за столом в своей угольной спальне. Против нее тоже с работою в руках сидела Полинька Калистратова. Николая Степановича Вязмитинова не было дома: он, переговорив с своим начальством, снова отправился в командировку; девушка растапливала печи в кабинете, зале и гостиной; няни и мамки не было дома. Пользуясь хорошею зарею, вырвавшеюся среди то холодной, то гнилой зимы, Евгения Петровна послала их поносить по воздуху детей.
Бледно-румяная заря узкою полоскою обрезала небосклон столицы и, рефлективно отражаясь сквозь двойные стекла окон, уныло-таинственно трепетала на стене темнеющей комнаты.
Евгения Петровна с Полинькой бросили иглы и, откинувшись в кресла, молча смотрели друг на друга.
— Мне, конечно, — произнесла, вздохнув, Полинька, — я в него верю и все перенесу: назад уж возвращаться поздно, да и… я думаю, что… он сам меня не бросит.
— Ни за что, — подтвердила Евгения Петровна.
— Да, — спокойнее ответила Полинька, как будто нуждавшаяся в этом подтверждении, — но за что же она его-то мучит?
Евгения Петровна промолчала.
— И ничего нельзя поделать! Некуда уйти, некуда скрыться! — высказывала свою мысль Полинька.
— Неприятное положение, — отвечала Женни и в то же мгновение, оглянувшись на растворенную дверь детской, вскрикнула, как вскрикивают дети, когда страшно замаскированный человек захватывает их в уголке, из которого некуда вырваться.
— Что ты! что ты! — останавливала ее Полинька и, взглянув по тому же направлению, сама вскрикнула.
В облитой бледно-розовым полусветом, полусумраком детской, как привидение, сложив руки на груди, стояла Лиза в своем черном капоре и черной атласной шубке, с обрывком какого-то шарфа на шее. Она стояла молча и не шевелясь.
— Лиза! — окликнула ее, оправляясь, Евгения Петровна.
Она разняла руки и в ответ поманила ее к себе пальцем.
Обе женщины разом вошли в детскую и взяли гостью за руки.
Руки Лизы были холодны как лед; лицо ее, как говорят, осунулось и теперь скорее совсем напоминало лицо матери Агнии, чем личико Лизы; беспорядочно подоткнутая в нескольких местах юбка ее платья была мокра снизу и смерзлась, а теплые бархатные сапоги выглядывали из-под обитых юбок как две промерзлые редьки.
— Не кричите так, не кричите, — прошептала Лиза.
— Ты напугала нас.
— Глупо пугаться: ничего нет страшного, — отвечала она по-прежнему все шепотом. — Пошли скорей нанять мне тут где-нибудь комнату, возле тебя чтобы, — просила она Женни.
— Да зачем же это сейчас? — уговаривала ее хозяйка. — Я одна, мужа нет, оставайся; дай я теба раздену.
Лиза ни за что не хотела остаться у Евгении Петровны.
— Пойми ты, — говорила она ей на ухо, — что я никого, решительно никого, кроме тебя, не могу видеть.
Послали девушку посмотреть комнату, которая отдавалась от жильцов по задней лестнице. Комната была светлая, большая, хорошо меблированная и перегороженная прочно уставленными ширмами красного дерева. Лиза велела взять ее и послала за своими вещами.
— Завтра же еще это можно будет сделать, — говорила ей Евгения Петровна.
— Нет, пожалуйста, позволь сегодня. Я хочу все сегодня кончить, — говорила она, давая девушке ключи и деньги на расходы.
Вошла, возвратившись с прогулки, Абрамовна, обхватила Лизину голову, заплакала и вдруг откинулась.
— Седые волосы! — воскликнула она в ужасе.
Женни нагнулась к голове Лизы и увидела, что половина ее волос белые.
Евгения Петровна отделила прядь наполовину седых волос Лизы и перевесила их через свою ладонь у нее перед глазами. Лиза забрала пальцем эти волосы и небрежно откинула их за ухо.
— Где ты была? — спрашивала ее Евгения Петровна.
— После, — отвечала Лиза.
Только когда Евгения Петровна одевала ее за драпировкою в свое белье и теплый шлафрок, Лиза долго смотрела на огонь лампады, лицо ее стало как будто розоветь, оживляться, и она прошептала:
— Я видела, как он умер.
— Ты видела Райнера? — спросила Женни.
— Видела.
— Ты была при его казни!
Лиза молча кивнула в знак согласия головою.
В доме шептались, как пря опасном больном. Няня обряжала нанятую для Лизаветы Егоровны комнату; сама Лиза молча лежала на кровати Евгении Петровны. У нее был лихорадочный озноб.
Через два или три часа привезли вещи Лизы, и еще через час она перешла в свою новую комнату, где все было установлено в порядке и в печке весело потрескивали сухие еловые дрова.
Озноб Лизы не прекращался, несмотря на высокую температуру усердно натопленной комнаты, два теплые одеяла и несколько стаканов выпитого ею бузинного настоя.
Послали за Розановым.
Лизавета Егоровна встретила его улыбкой и довольна крепко сжала его руку.
— Лихорадка, — сказал Розанов, — простудились?
— Верно, — отвечала Лиза.
— Далеко ездили? — спросил Розанов.
Лиза кивнула утвердительно головою.
— В одной своей городской шубке, — подсказала Евгения Петровна.
— Гм! — произнес Розанов, написал рецепт и велел приготовить теплую ванну.
К полуночи озноб неожиданно сменился жестоким жаром, Лиза начала покашливать, и к утру у нее появилась мокрота, окрашенная алым кровяным цветом.
Розанов бросился за Лобачевским.
В восьмом часу утра они явились вместе. Лобачевский внимательно осмотрел больную, выслушал ее грудь, взял опять Лизу за пульс и, смотря на секундную стрелку своих часов, произнес:
— Pneumonia, quae occupat magnam partem dextri etapecem pulmoni sinistri, complicata irritatione sistemae nervorum. — Pulsus filiformis.[84]
— Меа opinione, — отвечал на том же мертвом языке Розанов, — quod hic est indicato ad methodi medendi antiflogistica; hirudines medicinales numeros triginta et nitrum.[85]
— Prognosis lactalis, — еще ниже заговорил Лобачевский. — Consolationis gratia possumus proscribere amygdalini grana guatuor in emulsione amygdalarum dulcium uncias quatior, — et nihil magis![86]
— Нельзя ли перевести этот приговор на такой язык, чтобы я его понимала, — попросила Лиза.
Розанов затруднялся ответом.
— Удивительно! — произнесла с, снисходительной иронией больная. — Неужто вы думаете, что я боюсь смерти! Будьте честны, господин Лобачевский, скажите, что́ у меня? Я желаю знать, в каком я положении, и смерти не боюсь.
— У вас воспаление легких, — отвечал Лобачевский.
— Одного?
— Обоих.
— Значит, finita la comedia?[87]
— Положение трудное.
— Выйдите, — сказала она, дав знак Розанову, и взяла Лобачевского за руку.
— Люди перед смертью бывают слабы, — начала она едва слышно, оставшись с Лобачевским. — Физические муки могут заставить человека сказать то, чего он никогда не думал; могут заставить его сделать то, чего бы он не хотел. Я желаю одного, чтобы этого не случилось со мною… но если мои мучения будут очень сильны…
— Я этого не ожидаю, — отвечал Лобачевский.
— Но если бы?
— Что же вам угодно?
— Убейте меня разом.
Лобачевский молчал.
— Уважьте мое законное желание…
— Хорошо, — тихо произнес Лобачевский.
Лиза с благодарностью сжала его руку.
Весь этот день она провела в сильном жару, и нервное раздражение ее достигало крайних пределов: она вздрагивала при малейшем шорохе, но старалась владеть собою. Амигдалина она не хотела принимать и пила только ради слез и просьб падавшей перед нею на колени старухи.