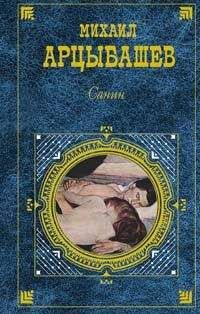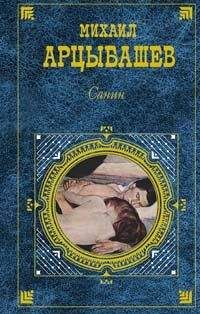Михаил Арцыбашев - Санин
Фигура солдата на пригорке странно и неожиданно, не там, где ее ожидали, замаячила, чуть-чуть освещенная отблеском потухающего костра. Людвиг Андерсон узнал его; это был тот самый солдат, который предлагал обыскать его. И ничего не шевельнулось в душе Людвига Андерсена. Лицо у него было холодно и неподвижно, как у сонного. Вокруг костра спали врастяжку солдаты, и только унтер-офицер сидел, опустив голову на колени.
Высокий худой человек, который шел рядом с Людвигом Андерсеном, вытянул руку с револьвером и вдруг выстрелил. Страшно яркий огонь сверкнул и погас с оглушительным треском.
Людвиг Андерсен видел затем, как часовой взмахнул руками и сел на черную землю, схватившись за грудь. Со всех сторон засверкали короткие трескучие огоньки и слились в один сухой, раздирающий воздух треск. Унтер-офицер вскочил и сейчас же повалился прямо в огонь. Серые фигуры солдат, как призраки, метались во все стороны, размахивая руками и падая и корчась на черной земле. Мимо Людвига Андерсена, как какая-то странная испуганная птица, размахивая руками, пробежал молоденький офицер, и, как будто думая о чем-то другом, Людвиг Андерсен поднял свою палку и изо всей силы, с тупым противным стуком, ударил ею по голове офицера. И офицер странно закружился, наткнулся на куст и сел после второго удара, закрывая обеими руками голову, как делают дети. Кто-то подбежал сбоку и выстрелил, как будто из-под самого локтя Людвига Андерсена. Офицер как-то странно порывисто осел и свалился наземь, точно его с силой бросили головой о землю, дернул ногами и мирно свернулся калачиком.
Выстрелы смолкали. Черные люди с белыми лицами, страшно и призрачно сереющими в темноте, суетились возле убитых солдат, отбирая оружие.
Людвиг Андерсен внимательно и холодно смотрел на все это. Когда все кончилось, он подошел и, взяв за ногу обгорелую тушу унтер-офицера, потащил ее с костра, не смог и бросил.
VIЛюдвиг Андерсен неподвижно сидел на крылечке правленского дома и думал. Думал он о том, что он, Людвиг Андерсен, с его очками, тростью, пальто и стихами лгал, предал пятнадцать человек, которых убили. Думал о том, что это страшно, и думал о том, что не ощущает в душе своей ни жалости, ни скорби и что если бы его выпустили, то все равно он, Людвиг Андерсен, с теми же очками и стихами, пойдет опять. Он старался разделить что-то в своей душе, но мысли были тяжелы и спутанны. И ему почему-то тяжелее было представить себе тех трех человек, которые лежали на снегу и смотрели на далекий кружок бледной луны невидящими мертвыми глазами, чем убитого офицера, которого с сухим противным стуком он ударил палкой по черепу. О собственной смерти он не думал, и ему казалось, что в нем самом все уже давно-давно кончилось. Что-то умерло, что-то опустело, и не надо было думать об этом. И когда его взяли за плечо, и он встал, и его быстро повели куда-то через огород, где торчали сухие кочны капусты, Людвиг Андерсен не мог поймать в голове ни одной мысли.
Его вывели на дорогу и поставили у изгороди, спиной к столбику.
Людвиг Андерсен поправил очки, заложил руки за спину и стал, чистенький и толстенький, слегка наклонив голову набок.
В последнюю минуту он взглянул перед собой и увидел дула, направленные ему в голову, грудь и живот, и бледные, с трясущимися губами лица. Он отчетливо заметил, как одно дуло, глядевшее ему в лоб, вдруг опустилось.
Что-то странное и непонятное, как будто уже нездешнее, неземное, прошло в голове Людвига Андерсена. Он выпрямился во весь свой небольшой рост и закинул голову с наивной гордостью. Какое-то странное, но отчетливое сознание чистоты, силы и гордости наполнило его душу, а все — и солнце, и небо, и люди, и поля, и смерть — показалось ему ничтожным, далеким и ненужным.
Пули хлопнули его в грудь, в левый глаз, в живот, пробив чистенькое, застегнутое на все пуговицы пальто… Он уронил очки, разбитые вдребезги, завизжал и, повернувшись кругом, упал лицом на твердую толстую жердь изгороди, тараща оставшийся глаз и царапая землю ногтями вытянутых рук, точно стараясь удержаться.
Позеленевший офицер бросился к нему и, бестолково тыкая его револьвером в затылок, выстрелил два раза. Людвиг Андерсен вытянулся.
Солдаты быстро ушли, отбивая шаг. А Людвиг Андерсен остался лежать, будто приплюснутый к земле. Его левая рука еще секунд десять шевелила указательным пальцем.
Старая история
В конце концов дачникам было скучно. Все это был народ, который много говорил о том, что любит природу, восхищался морскими далями, закатом и облаками на таинственной вершине угрюмого мыса, но почти все приехали из больших городов, где природу видели только на картинах и слишком привыкли думать о ней, как о чем-то волшебном, что может совершенно изменить жизнь и дать какие-то особенные, невероятные удовольствия. И потому, хотя все было действительно красиво — и облака на мысе таинственны, и море голубо, и волны нежны и говорливы, и солнце ярко, — все это казалось однообразным. Хотелось чего-то необыкновенного… какой-то особенной любви, поэтичной, красочной, в которой растворилось бы тело и душа, как растворяются они, когда совершенно нагой лежишь на горячем прибрежном песке, в убаюкивающей ванне солнечных лучей, видишь только небо да море, а у ног тихонько звенит совсем прозрачная, смеющаяся волна, такая маленькая и кроткая, точно серебряная рыбка, плескающаяся на солнце.
А этого ничего не было. Природа, как всегда, была прекрасна, а жизнь ленива и скучна. Правда, утром, когда ходили купаться и ныряли в голубой волне, было весело, но все-таки чего-то не хватало.
Женщины в пестрых костюмах, сверкая голыми руками, отплывали далеко в море и лежали на воде, точно отдаваясь горячему солнцу. Мужчины с высокого помоста прыгали в воду, ныряли и фыркали, как тюлени. И те и другие издали поглядывали друг на друга. Мужчины волновались, когда видели над волной круглые розовые руки или неожиданно, сквозь щели купальни, замечали неосторожное, нагое и стройное, мгновенно исчезающее тело. А женщины смеялись звонко и нервно, чувствуя на себе жадные взгляды.
Но потом те и другие одевались и выходили на набережную, одетые, притворяющиеся, что под платьями нет ни наготы, ни желания. Они здоровались, с любезным оживлением болтали о пустяках и расходились обедать.
Набережная пустела, и бесполезно жгло ее белые камни далекое солнце. Только на обрыве, над морем, сидели одинокие девушки с книгами, и нельзя было понять, как могут они читать, когда солнце так горит, и небо такое голубое, и море такое большое. Иногда они устало опускали книгу на колени и долго задумчиво смотрели в растопленную солнцем морскую даль, где чуть мерещились пароходы, плывущие, казалось, в какую-то далекую, счастливую страну. А потом потягивались, закинув руки за голову и выгибаясь стройным гибким телом.
Вечером, когда над морем стояла белая луна, вокруг нее небо было теплое, и дальний мыс таял в прозрачной дымке, на обрыве начиналась особенная, таинственная жизнь. То тут, то там раздавались голоса, и странно — громки были только женские. Мужчины бурчали так тихо, что можно было подумать, будто там одни женщины. И оттого казалось, что они говорят и просят о чем-то таком, чего нельзя сказать громко. А в звонком и лукаво наивном смехе женщин отчетливо слышалось; «Знаю, чего тебе хочется от меня… Может быть, догадайся, я сама хочу того же… Но я не скажу этого, нет, не скажу…»
Это были счастливые, которые уже нашли то, чего им было нужно от этой солнечной и лунной природы, от моря и теплой южной ночи. А остальные, в смутном ожидании какого-то счастья, ходили по набережной, слушали разухабистый военный оркестр, в котором, казалось, было слишком много барабанов, смеялись повторяющимся остротам и ужинали на поплавках. Им было скучно и обидно, точно кто-то обманул их.
На том поплавке, который был ближе к музыке, каждый вечер ужинала одна и та же компания случайных курортных знакомых: веселый доктор, в белой панаме, с женой — молодой и бледной дамой; известный писатель, большой и басистый мужчина, с огромной швейцарской трубкой в зубах; больной чахоткой студент и тоненькая, большеглазая, как будто бы вся голубая девушка, которую днем постоянно видели с красками, примостившуюся где-нибудь у розовых камней, облизываемых белой пеной.
Это была дружная компания интеллигентных, неглупых людей. Благодаря тому что среди них был известный писатель, многие с любопытством и завистью поглядывали на их столик и прислушивались к их разговорам. Поэтому писатель говорил преувеличенно громко и важно дымил своей трубкой.
Должно быть, потому, что среди них была молоденькая, еще не любившая, но готовая полюбить девушка, такая хорошенькая в своей синей юбке и белой рубашке с синими полосками, разговор постоянно вертелся около любви.