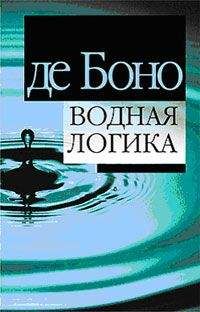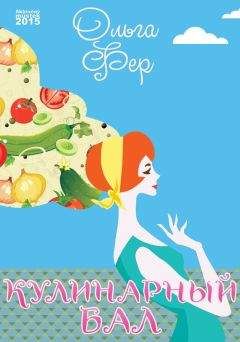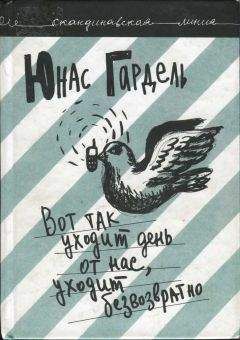Андрей Амальрик - Нежеланное путешествие в Сибирь
После обеда меня перевели в соседнюю освободившуюся камеру, такую же точно, как и прежняя, но, как всякое новое место, показавшуюся мне гораздо более мрачной. До меня здесь сидела женщина с необычайно крикливым голосом. Когда ее только посадили, она рвалась из камеры и со слезами истерически кричала, что она не виновата, ее оклеветали, что она будет жаловаться и до Хрущева дойдет. Старшина ее урезонивал, говоря: "Какой тебе Хрущев, ему уже давно по шапке дали". Впоследствии она успокоилась и помогала даже разносить обед остальным заключенным, с любопытством заглядывая в глазок. Женщины вообще доставляли старшинам больше беспокойства, чем мужчины. Так, проститутка в крайней камере схватила пожилого старшину, когда он открыл дверь, повалила на себя и зашептала что-то вроде: давай, действуй, пока не поздно. На смерть перепуганный, тот насилу вырвался и зашел ко мне рассказать эту удивительную историю.
Ни в понедельник, ни во вторник адвокат ко мне не заходил и на суд меня не вызывали, между тем во вторник кончался установленный законом пятидневный срок, так что я уже начал беспоко-иться. Чувствовал я себя в одиночестве очень тоскливо, особенно потому, что нечего было читать и нечем было заняться. Вечером во вторник, часов уже около одиннадцати, в камеру ввели моло-дого человека, довольно наглого на вид, в плаще "болонья", которые тогда начали входить у нас в моду. Повел он себя сразу по отношению ко мне не то, чтоб враждебно, но вызывающе, особенно ему не нравился мой рваный свитер, который, правда, сильно дисгармонировал с его шикарным костюмом. Узнав же, что я "тунеядец", он отнесся ко мне совсем пренебрежительно, давая понять, что он фигура поважней. Сразу было видно, что он блатной, а блатных, особенно молодых, изнут-ри как бы сжигает какое-то нервное чувство и желание "показать себя". Как-то мы с ним все же разговорились, он стал спрашивать, где я живу, почему-то дело коснулось школы, в которой я учился, и оказалось, что и он учился там же. Стали припоминать учителей, и выходило, что учились мы примерно в одно время. Тут он присмотрелся ко мне внимательнее и назвал мое имя. Я его тоже вспомнил немного погодя и даже назвал его фамилию: Иванов. Мы сначала учились в одном классе в начальной школе, а потом в другой школе в параллельных классах, пока его не исключили из шестого, кажется, класса. Мы очень удивились этой странной встрече и долго вспоминали школьные годы. Иванов сказал мне - опять же с блатным пафосом и актерством - что стал вором, сначала был карманником, а потом стал специализироваться по магазинам и сберкассам. Я спросил его, вспомнив рассказ судьи, не знает ли он Пушкина. Он, правда, слышал о нем, но отозвался очень пренебрежительно, сказав: "Это щипач, такой человек, который из-за носового платка может сесть". Сам он, по его словам, попал сейчас из-за пустяка: подрался с кем-то в поезде, и самое большее ждал пятнадцати суток, документы у него в порядке, есть даже диплом инженера, купленный за хорошую сумму в Грузии, деньги от последнего "дела" лежат в Москве у проститутки, так что все обстоит хорошо.
Он с интересом расспрашивал меня о картинах и художниках, едва ли в целом правильно представляя себе, о чем идет речь. Заинтересовали его очень цены, которые художники получают за картины. Когда он узнал, что у меня был обыск, стал спрашивать, что взяли и не взяли чего-либо такого, что могло бы мне сильно повредить. Я ответил, что ничего такого и не было, а что немного денег, какие у меня были, и записную книжку с адресами и телефонами припрятал у своих друзей. Тут он стал говорить, что это дело неверное, что и друзья могут продать и что лучше книжку совсем уничтожить, и стал предлагать мне, как только он выйдет на волю, съездить к моим друзьям и ее уничтожить. Предлагал он это очень настойчиво и несколько раз к этому возвращался, даже тогда, когда мы уже легли спать, так что я начал подозревать, не подсажен ли он ко мне специально. Я постарался своих подозрений ничем не выдать, но адрес ему дал совершенно вымышленный и стал больше его расспрашивать, чем говорить о себе.
Говорил он очень хвастливо, особенно напирал на то, что ему приходилось иметь большие деньги, - двадцать тысяч, как он говорил. Он едва в камеру вошел, как сразу сказал, что я небось больше сторублевки в глаза не видел, и сейчас он все время повторял: "Сто рублей это не деньги". Мне он, покровительствуя школьному товарищу, обещал прислать деньги на место ссылки, те же сто рублей, то есть, выходит, все же "не деньги". "Ты напиши только, - говорил он, - я сразу же вышлю", - и дал свой адрес. Рассказывал много, как сидел в Таганке и в лагерях, как их под конвоем водили, как он симулировал больное сердце, и у него так выходило, что он безвинный страдалец и мучился всю жизнь по чужой злой воле, хотя сам же рассказывал, как воровал, так что знал, на что шел. Считать себя жертвой несправедливого правопорядка - черта, как я потом понял, для блатных вообще характерная. Рассказывал он еще о разных ворах, в частности, про один блатной "авторитет" - старика со странной кличкой Володька Ленин, который имел общим счетом судимостей на девяносто лет. Сам мой товарищ был типичным примером молодого полуинтеллигентного вора, каких мне пришлось еще потом видеть. Однако блатной мир, по существу, очень эзотеричен, и всякий посторонний и малоискушенный наблюдатель вроде меня может легко ошибиться в своих оценках. Ночь мы проспали вместе, зябко сжавшись под одним пиджаком, рано утром его вывели, и я его больше не видел.
Глава шестая
СЛЕДСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ. "ЧЕРНЫЙ ВОРОН"
В среду утром я с нетерпением ждал адвоката или просто вызова в суд, но никто не приходил. Было очень холодно. На шестой день пребывания в КПЗ я уже совершенно простудился и почти все время дрожал мелкой дрожью. После обеда я прилег на нары в ботинках, - ботинки нельзя было снять, так как иначе мерзли ноги, - и постепенно задремал. Я проснулся от стука открываемой двери.
Вошел молодой человек чиновного вида, в очках, с университетским значком, в форме лейтенанта милиции, с ним дежурный по отделению милицейский офицер и старшина. Молодой человек, любезно осведомившись, я ли Амальрик Андрей Алексеевич, предложил мне следовать за ним. Мы поднялись на второй этаж, прошли по коридору и вошли в комнату, где сидело еще двое или твое человек, на нас ни малейшего внимания не обративших. Лейтенант предложил мне садиться. Я огляделся: комната эта была мне немного знакома, я был здесь уже второй раз.
В 1961 году я хотел послать свою историческую работу "Норманны и Киевская Русь" датско-му слависту профессору Стендер-Петерсену, с которым я переписывался. Посылать ее по почте мне казалось делом бессмысленным, и я решил попросить об этой услуге датское посольство в Москве. Письмо со своей просьбой я отнес в посольство сам, чтобы опять-таки не впутывать в это почту. После препирательств с дежурившим у посольства милиционером мне все-таки удалось бросить письмо в щель для почты на двери. Я был тотчас задержан и доставлен сюда, в 60-е отделение милиции, где в этой же самой комнате какой-то толстый майор из охраны дипкорпуса долго пытался у меня узнать, что я там писал. Я сказал, что просто поблагодарил посольство за ранее данный мне адрес профессора, и меня отпустили. Посольство сначала согласилось переслать мою рукопись, ко мне заехал оттуда чиновник, взял мою работу и письмо к Стендер-Петерсену. Однако затем, может быть, подозревая провокацию с моей стороны, или просто не желая связы-ваться с пересылкой каких бы то ни было рукописей, или, поняв из сопроводительного письма профессору, что за эту работу я был исключен из университета, посольство, ничего не сообщив мне об этом, передало мою рукопись в Министерство иностранных дел СССР, которое немедлен-но переслало ее КГБ. Так что вместо датского профессора мне пришлось объясняться с советским следователем. Через неделю посольство передало в МИД и мое письмо профессору, о котором я при первом разговоре в КГБ умолчал. Так что мне пришлось довольно туго. До сих пор я не знаю, почему посольство, взявшись сначала переслать рукопись, стало действовать таким странным образом и выдало меня КГБ, вместо того, чтобы просто вернуть мне рукопись назад, если она его почему-либо не устраивала. КГБ переслал рукопись на рецензию; убедившись, что ничего антисоветского там нет, а есть лишь разбор славяно-скандинавских отношений в IX веке, через несколько месяцев рукопись мне вернули, порекомендовав не делать больше попыток переслать ее за границу. Все это я мог вспомнить, сидя за столом напротив молодого чиновника.
Тот, видя, что я дрожу, любезно спросил, не болен ли я, и тут же сказал, что он крайне против моего содержания в заключении. Далее он перешел к обычным вопросам, когда я родился и где работал, но я увидел на столе папку с изъятыми у меня пьесами и понял, что дело приобретает новый оборот. Достав их из папки, следователь спросил, мои ли это пьесы. Я ответил, что мои. "Ну, чтобы у нас в будущем не было недоразумений, сказал следователь, - напишите вверху на первой странице каждой пьесы, что она ваша". И под диктовку следователя на каждой пьесе я написал: "Пьеса принадлежит мне. Была изъята при обыске 15 мая 1965 года". Затем следователь спросил, в какой аудитории читал я свои пьесы - студенческой, писательской или еще какой-либо - и кому давал их читать. После нескольких уклончивых ответов, так как я не мог еще понять, куда клонится дело, я твердо ответил, что ни в какой аудитории я сам своих пьес не читал и никому читать не давал, за исключением художника Зверева, который проиллюстрировал несколько моих пьес. Тогда следователь перешел к рисункам Зверева, сказав, что о пьесах разговор еще будет, и спросил, кому я показывал и продавал иллюстрации Зверева к моим пьесам. Я ответил, что никому не показывал и не продавал.