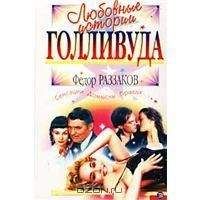Елена Ткач - Химеры
И что в самом деле стою тут, немой как рыба? — подумал Сашка, сердясь на себя, и, не раздумывая, бахнул: «Бодлера читал!»
— Ого! — восхитился Борис Ефимович и принялся в волнении вышагивать по комнате. — Батенька, да вы эстет! Экий, понимаете ли, выбор! Чтобы не из школьной программы, а этак вот — нате вам! — не кого-нибудь, а Бодлера! А что ж в особенности приглянулось вам, я полагаю, из «Цветов зла»: быть может, «Гимн красоте» или «Душа вина», а может быть «Семь стариков»? Хотя нет — это уж я хватил — для того вы, мой друг, слишком молоды.
— Ну, мне сейчас трудно вспомнить, — замялся парень. — Всякое приглянулось.
— Но вы ведь не склонны к натурализму — ведь нет?! Я почему-то уверен, что в душе вы романтик.
— А что ж плохого в натурализме? — в Сашке что-то вдруг дернуло, ухнуло и его, что называется, понесло. — Если человек так жизнь видит, так чувствует, это, что, плохо? Но он такой и по-другому не может! Он устроен так, понимаете? Такой он родился, такой и умрет. А вы думаете, надо врать? Притворяться? Чистенького из себя строить? А если не чистенький, а грязный как вошь, тогда как?
— Мне отчего-то думается, что вошь не такая уж грязная — это во-первых… А потом, кто сказал, что каким человек родился, таким и умрет? Для того нам жизнь и дана, понимаете ли, чтоб не на месте торчать пень пнем, а меняться, идти. Это путь, понимаете ли, друг мой, и путь нелегкий, полный сомнений, неуверенности в себе… боли, да! Именно так и никак иначе! Это борьба, и прежде всего с самим собой. Вы так не думаете?
— Я… я не знаю. Путь — это ещё может быть… А борьба с собой… по-моему глупо это! Чего с собой-то бороться, когда и так вокруг всякой дряни хватает. Сильным быть — это да, это надо… а тратить время на самокопания — нет, это чушь собачья! Да и времени нет: жизнь-то какая, видите? Это ж прямо экспресс скоростной, который того и гляди сковырнется с рельсов! Вы телевизор глядите? Ну вот!
— Ага, вот я вас и поймал! — возопил старик, захлопал в ладоши и принялся потирать руки, прямо-таки сияя от радости. — Ну, теперь у нас дело пойдет! Во всяком случае, исходная точка для меня прояснилась.
— А что я такого сказал? — буркнул Саня, ругая себя почем зря за излишнюю откровенность.
— Вы, мой друг, сказали мне очень многое. От этого и начнем танцевать! А для начала я вам сообщить хочу следующее. Вот вы говорите, тратить время на то, чтоб в себе разбираться и что-то менять — все это чушь собачья… А возьмем, к примеру того же Бодлера. Есть у него стихотворение: «Непоправимое» называется. Да, что это я, он и сам нам все скажет. Сейчас, сейчас, где он тут? Ага! — Борис Ефимович отыскал на полке с книгами маленький томик Бодлера в мягкой обложке. — Погодите-ка, погодите… а вот!
Он начал читать глухим мерным голосом, но Сашка не слушал. Он ощущал себя лягушкой, распяленной на стекле натуралиста, который, напевая песенку, рассекает ей мышцы скальпелем. Ведь вот напасть! То мать вечно совала свой нос в его дела — чуть ли не в ноздри ему заглядывала: нет ли там чего, что можно улучшить, исправить, вылечить! И все это из лучших чувств! Потом этот доктор хренов! Ведь в самое нутро влез, собака, всю душу вынул, прополоскал своими грязными лапами, отжал и назад всунул. А, спрашивается, с какой стати?! Разве есть у кого-нибудь право человека трясти, выпытывать, кто он, да что, под микроскопом его разглядывать и блеять: не-е-ет, голубчик, ты не так живешь! Надо совсем по-другому! А как надо жить — про это мы тебе все расскажем и даже покажем… Да что они все, офонарели, что ли? Как будто лучше всех про жизнь знают! Ничего они не знают, улитки ползучие! И этот туда же, учить его вздумал. Исходная точка у него появилась, танцевать они с ним начнут!!! Да уж, этот старикан у него затанцует! Но тут… тут старик возвысил голос, Сашка невольно отвлекся от своих мыслей и вслушался в текст…
Непоправимое проклятыми клыками
Грызет непрочный ствол души,
И как над зданием термит, оно над нами,
Таясь, работает в тиши
Непоправимое проклятыми клыками!
— В простом театре я, случалось, наблюдал,
Как, по веленью нежной феи,
Тьму адскую восход волшебный побеждал,
В раскатах меди пламенея.
В простом театре я, случалось, наблюдал,
Как злого Сатану крылатое созданье,
Ликуя, повергало в прах…
Но в твой театр, душа, не вхоже ликованье.
И ты напрасно ждешь впотьмах,
Что сцену осветит крылатое Созданье! (пер. А. Эфрон)
Александр замер. Эти строки поразили его в самое сердце. Казалось, они написаны для него и… про него. И осознавать это было и мучительно и хорошо. Да, хорошо! Потому что поэт его не поучал — он страдал вместе с ним.
— Вот вам, юноша, образец романтического мироощущения: мир греховен и ты сам — плоть от плоти его! Зло жжет сердце поэта, он не может жить, понимая, что оно безнаказанно, что оно повсюду. Сделав зло, человек обречен — это уже не исправишь! И это вконец сгрызет, изведет его… «Но в твой театр, душа, не вхоже ликованье» — бедный, бедный! Но Бодлер не всегда был таким и отнюдь не всегда откликался на зов этой жизни с такой безысходностью. Он писал и другое, он думал и так:
Блажен, кто, отряхнув земли унылый прах,
Оставив мир скорбей коснеть в тумане мглистом,
Взмывает гордо ввысь, плывет в эфире чистом,
На мощных, широко раскинутых крылах;
Блажен мечтающий: как жаворонков стая,
Вспорхнув, его мечты взлетают к небу вмиг;
Весь мир ему открыт, и внятен тот язык,
Которым говорят цветок и вещь немая. (Пер. В. Шор)
— Вот, а вы говорите, человек не меняется. Еще как! Кроме боли и муки, у него есть мечта, а она может вытянуть из самой гнилой и опасной трясины. Тогда человек как бы возносится сам над собой, перебарывает в себе зло — ту силу, которая восстает в нас против святого божественного начала, — дар Сатаны. Но имя это, мой милый, не стоит поминать всуе, тем более на ночь глядя. Лучше давайте-ка мы порисуем с вами немного. Вот, к примеру, как я воспринимаю в цвете последние две строфы.
Старик достал лист бумаги, коробку с пастелью, взял несколько разломанных мелков, — надо сказать, содержались они у него в некотором беспорядке, — и принялся быстро и нервно чиркать пастелью по бумаге. Минут через пять Саня увидел яркий и свежий рисунок, в котором не содержалось никакого сюжета, но характер, настроение без сомнения были.
— Ну, что скажете? — старик отставил рисунок к стене. — Что это вам напоминает?
— Наверное… небо, — неуверенно откликнулся Саня.
— Хорошо! Очень хорошо! Но ведь здесь не голубой, не серый и не лиловый — здесь праздник цвета! Глядите: и красные разводы имеются, и этот оранжевый, оттененный зеленым. Верней, это скорее все-таки бирюза. А? Что скажете?
— Да, похоже на бирюзу, но… вот здесь она переходит в оттенок, который иногда появляется на закате над морем, когда над темно-синим полыхает напряженный оранжевый цвет, а потом он переходит в такую вот… бирюзу.
— Блестяще! — опять закричал старик и притопнул ногами, изображая подобие чечетки. — Да, мы с вами такую кашу заварим, Сашенька, что земля закачается! У вас редкое восприятие цвета. А это немало — это, пожалуй, едва ли не главное для художника. Ну? Будем биться?
— За что? — несколько помрачнел Сашка, который от похвал старика расцвел точно мак.
— За нее, за что же ещё — за красоту. Да ещё с большой буквы! Когда человек ищет и находит её — душа его как бы свежеет, она чистится и растет. Растет, да! Но это я, батенька, вперед забегаю — и так вас, пожалуй, сегодня перегрузил, накинулся, что твой волк на ягненка!
И старик снова осклабился, показывая длинные и крупные стальные зубы. Но Сашке отчего-то эта усмешка не показалась теперь ни ехидной, ни злопыхательской. Может, просто дантист ему такой поганый попался, который превратил нормальную человеческую улыбку в подобие бесовской гримасы! А может, это от улыбки так черты искажаются, может, нерв какой-то задет — у стариков так бывает… Парень видел, что хозяин мастерской искренне радуется, что ученик у него не последний болван и кое-что смыслит в цвете. И ему это было на удивленье приятно!
Глава 7
ВСТРЕЧА
Стылый унылый ноябрь тянулся к концу — шла зима. Уж не раз кружили под вечер снежинки — хрупкие, острые, совсем ещё не похожие на зимний пушистый снег. По утрам подмораживало, и Саня хрустел башмаками по первому тоненькому ледку, бредя в школу. Домой он теперь не спешил — дома его ждала мама…
Лариса Борисовна вернулась домой спустя неделю после срока, назначенного врачами для выписки — её задержали в больнице, чтоб хорошенько обследовать. Она чувствовала себя плохо, очень плохо! Сердце сбоило, но кроме этого явно было что-то ещё — какая-то не распознанная болезнь, которую пока не смогли диагностировать. Через месяц ей предстояло повторное обследование, а пока назначен строгий постельный режим. Саня с мощью тети Оли научился сносно готовить, ходил в магазины, продукты таскал — в общем, был за хозяйку… Мать волновалась — мол, мальчишка может перегрузиться: уроки, дом, да ещё занятия рисованием. Но сестра её успокаивала — ничего, справится, ему это только на пользу.