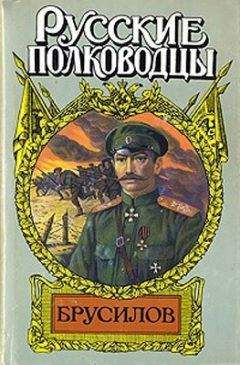Юрий Слёзкин - Разными глазами
Вы, как всегда, оказались правы. Чем дальше от меня уходит жена, тем я ее больше люблю. Но, может быть, это-то и есть моя болезнь, от которой Вы не захотели меня вылечить. Ведь с Вами-то, в нашем-то чувстве не было трещины. Ни с кем никогда я не был так духовно связан, как с Вами. Никто так меня не знает, как Вы. Ни с кем я так не говорил — когда чувствуешь, что каждое слово доходит. И разве Вам самой не было легко со мной? В чем же дело? Отчего мы с Вами расстались и я примирился с этой разлукой, а разлад с женой все еще для меня мучителен?
Вы уехали внезапно, не предупредив. Уехали в «Кириле», туда, где моя жена. Случайно ли? Написали мне жестокое письмо — не потому ли, что все еще меня любите? Оставляете нашего ребенка. Не затем ли, что это-то и есть самая крепкая связь?
Ничего не знаю, ничего не понимаю. Думаю, что Вы знаете и понимаете все — Вы мудрая, как каждая женщина, в которой жив человек.
Ответьте мне.
МихаилXXXV
Антон Герасимович Печеных — жене в Харьков
«Кириле», 11 июня
Здравствуй, кокосик мой вкусненький, до чего же я по родинке своей соскучился! Мне тут на пляже приходится много видеть — ни у кого нет такого сложения, как у тебя, и вообще женщине загар ни к чему,— дусеночек мой белюлюсенький! Я и сам обыкновенно хожу на пляже не голый, а в исподней рубашке, и на голове из полотенца тюрбан — так много приличней при здешней нескромности нравов.
Вообрази себе, из дома отдыха металлистов, что во дворце великого князя Николая Михайловича, публика ходит в одних трусиках круглый день — весь парк загадили своим безобразным видом. Вообще можно наблюдать картинки!
Я уже писал тебе о наших делах: так они совершенно перепутались. Вчера уехала первая партия — в ней писатель Пороша и Ольгина — докторша. Подали автомобиль к девяти утра. Конечно, все вышли провожать. И вот вижу — бежит из Ай-Джина Тесьминов с огромным букетом роз — прямо во дворец, в комнату, где помещалась Ольгина, а выходит оттуда через четверть часа, не меньше,— физиономия на сторону, губы трясутся — ей-богу, а у нее из-под шляпки волосы, глаза по сторонам, нос красный, в руках букет. Торопятся к автомобилю, и прямо им навстречу Марья Васильевна. Красота! Ну, думаю, сейчас катастрофа… Однако обошлось благополучно. Угрюмову точно в косяк вдавило. Я бы на ее месте в морду ему, а она чуть сама не удрала. Дура!
Забралась Ольгина в автомобиль рядом с агрономшей Думко, зарылась лицом в букет, будто нюхает, однако вижу — глазами в Тесьминова. Он сам чуть ли не под колеса. Стоит, молчит, как пень. А в стороне Марья Васильевна с художницей Геймер — обе смеются. Только меня не надуешь — какой там у Марьи Васильевны смех! Подхожу нарочно к ней и очень вежливо замечаю:
— Не правда ли, сударыня, печально видеть отъезд людей, с которыми так приятно провел время? Николай Васильевич даже, мне кажется, совсем расстроен…
Вижу, у нее глаза, как у кошки, круглые — так и вцепится сейчас в меня.
— Расставаться всегда грустно,— отвечает.
Я же — точно ничего не было:
— Конечно, особенно если целыми днями вместе влюбленными голубками проводили.
Чувствую, все в ней кипит, точно на сковородке поджаривается. Шарахнулась от меня, под руку Геймер и в парк. Не нравится, стерве. А мужу изменять нравится? А женатого человека от жены отваживать приятно?
Еще с ними одна советская служащая Вальященко Евгения Петровна уехала. Тоже штучка крученая. Я с ней было знакомство завел по-хорошему — вижу, барышня скучает,— потом раскусил — такой перец! Похабные анекдоты как матрос шпарит. И только бы деньги — все, что угодно! Навязывалась ко мне, да я живо отшил.
Но представь себе — совершенно для меня неожиданно новая интрижка обнаружилась. Только завели мотор, как вижу — агрономша Думко, которая раньше разговаривала в стороне с доктором Ждановым,— вдруг ему при всех на шею, а он ее прямо в губы и на «ты».
— Пиши,— кричит,— обязательно, как приедешь, насчет комнаты!
Тут не только я — все так и разинули рты. В чем дело? Когда же это успели снюхаться? Кажется, от меня ничто не ускользнет,— и то проворонил.
А они смеются во весь рот самым наглым образом, по сторонам оглядываются — вот, мол, нам на вас наплевать. И Ольгина с ними заодно.
— Ну, Натаха, садись скорее, довольно демонстраций! — кричит.— Будет! Хорошенького понемножку!
А Жданов ей со смехом:
— Нам бояться нечего — у нас решено и подписано! Правда? Позвольте вам, граждане, представить — моя жена!
Черт его знает, что за комедия. Смотрю, Тесьминов схватил за руку Ольгину и что-то шепчет — лица на нем нет от волненья, а потом как прижмется к руке губами. Вот сейчас тоже что-нибудь выкинет. Только не успел: повернул шофер руль — поехали.
Одно слово — сенсационная фильма. Разговору после-то было! Все к Жданову — как, когда? А он только смеется.
— Мы,— говорит,— порешили это в последние дни. Я и сам раньше не думал… Поздравлять после станете.
Как это тебе нравится? И даже не расписывались. Вот тебе коммунистическое общество!
Черт с ними со всеми!
Желудком что-то последнее время страдаю — от пищи. Дали нам осетрину под соусом пикан на обед. Перетравили пятерых — и меня в том числе. За доктором из Ялты заведующий ездил — струхнул порядком. У него в голове один разврат — по утрам сам на себя не похож. Но если бы ты Тесьминова видела после отъезда Ольгиной. Пришел он поздно вечером в общую залу — покрутился вокруг себя, как собака, потерявшая хозяина, и, слова не сказавши, назад.
Я к нему.
— Запустение,— говорю,— тоска… скоро нам с вами ехать. Точно бы месяца не было…
Он на меня вылупился — ничего не понимает.
— В Москву отправитесь? — спрашиваю.
— Да, конечно.
А я знаю, что врет: слышал, как он говорил с Марьей Васильевной о том, что останется еще месяц. Вижу — торопится куда-то. Я не отстаю. Вышли в парк — ветер, тучи. Он идет вперед по шоссе к Кореизу, я за ним. Пришли в деревню, к почте, к почтовому ящику. Нарочно вынул папироску, прошу спичек. Он в карман и с коробкой — письмо. Чиркает спичкой, а я пригляделся — вижу при свете на конверте — Ольгиной. Вот оно как его разобрало — в тот же день следом ей письмо! Черт его разберет, что за человек. Вампир какой-то! А потом привел меня в кафе.
— Вы умеете пить? — спрашивает,
Вернулись с ним четверть первого. Пришлось стучаться. Впечатление совершенно ясное — эротически помешанный.
Нет, кокосик, больше я по санаториям не ездок. Одно расстройство нервов и душевная тоска. За тебя волнуюсь: если изменишь — не переживу, так и знай.
И вообще, лучше бы Измайлову к нам не ходить. Совершенно ему делать у нас нечего. Три дня от тебя письма нет — почему?
Любименькая моя, не огорчай, ты ведь знаешь мою нервозность: в один день могу похудеть до неузнаваемости.
Целую во все места.
Твой КутикXXXVI
Варвара Михайловна Тесьминова — Николаю Васильевичу Тесьминову в «Кириле»
Москва, 11 июня
Коля, дорогой, получила твое письмо и долго так не решалась отвечать тебе потому, что ты знаешь, как я не люблю говорить на такие темы. Ты пишешь все о том же — о моем отношении к тебе. Сколько раз между нами об этом говорено! И ни к чему не приходили. Почему? Наверно, потому, что не понимаем друг друга. Иной я не могу быть. Жить только тобою, любовью к тебе не способна. Мне всего дороже мое дело — театр, пусть даже, как ты говоришь, не театральное искусство, а сам театр, кулисы, воздух театра, те вот именно люди, с которыми я делаю свое дело. Вне этого я как рыба, выброшенная на берег, ты же видел, какой я становлюсь, когда не служу, не играю. Другие люди, другие дела меня не занимают… С этим ничего не поделаешь… Ты и наша дочурка мне всегда были очень дороги, это как-то во мне, внутри, а проявлять это не умею, стыдно… Создавать какой-то уют, думать как-то о вас, стеснять свою свободу из-за вас не могу. Могу голодать, недосыпать, переносить любое лишение, когда это будет нужно, но одна мысль о том, что могут стеснить мою свободу, быть недовольным тем или иным моим поступком, приводит меня в ярость.
Последнюю зиму ты жаловался на свое одиночество, на нашу разобщенность — я сама сознавала это, но поделать ничего не могла. Я знала, что это может кончиться печально, и все-таки оставила идти, как идет. Не из равнодушия — а все из-за того же, не могу себя насиловать. Вот почему, когда ты ушел от меня к другой, я ни в чем не упрекала тебя, ничему не противилась. А вот что ты ревновал меня к Рюмину — это совершеннейший вздор. Но от него не откажусь, потому что он — частица моего мира.
Ты жаловался, что я не живу твоими интересами. Они мне дороги, но жить ими не могу, потому что у меня есть свои. Может быть, во мне слишком много мужского. К тому же у меня мало темперамента. Я даже не знаю — цель ли моей жизни моя работа, сцена, но знаю, что это моя жизнь — единственное, что у меня есть. Ты же хотел заполнить мою жизнь иным — любовью к тебе, нашим домом. Этого никогда не будет, не потому, что я не хочу так, а потому, что для этого мне нужно было бы перестать быть самой собой. А помнишь, как нам было легко и весело, когда ты работал со мной вместе?