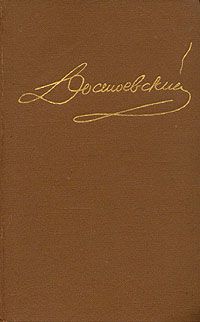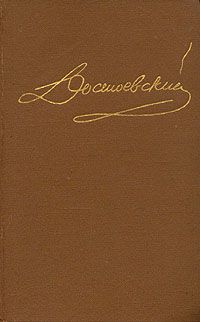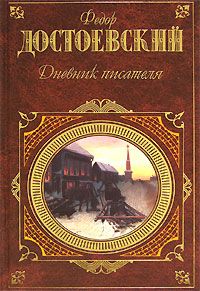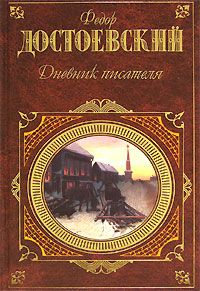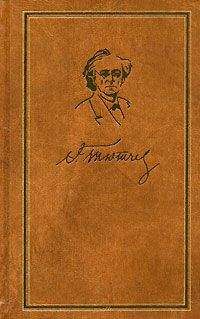Федор Достоевский - Том 12. Дневник писателя 1873. Статьи и очерки
— Ваше превосходительство, тайный советник Тарасевич просыпаются! — возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайною торопливостью.
— А? что? — брезгливо и сюсюкающим голосом прошамкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно-повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в последние дни нечто слышал о сем Тарасевиче — соблазнительное и тревожное в высшей степени.
— Это я-с, ваше превосходительство, покамест всего только я-с.
— Чего просите и что вам угодно?
— Единственно осведомиться о здоровье вашего превосходительства; с непривычки здесь каждый с первого разу чувствует себя как бы в тесноте-с… Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с вашим превосходительством и надеются…
— Не слыхал.
— Помилуйте, ваше превосходительство, генерал Первоедов, Василий Васильевич…
— Вы генерал Первоедов?
— Нет-с, ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников-с к вашим услугам, а генерал Первоедов…
— Вздор! И прошу вас оставить меня в покое.
— Оставьте, — с достоинством остановил наконец сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента.
— Не проснулись еще, ваше превосходительство, надо иметь в виду-с; это они с непривычки-с: проснутся и тогда примут иначе-с…
— Оставьте, — повторил генерал.
— Василий Васильевич! Эй вы, ваше превосходительство! — вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос — голос барский и дерзкий, с утомленным по моде выговором и с нахальною его скандировкою, — я вас всех уже два часа наблюдаю; я ведь три дня лежу; вы помните меня, Василий Васильевич? Клиневич, у Волоконских встречались, куда вас, не знаю почему, тоже пускали.
— Как, граф Петр Петрович… да неужели же вы… и в таких молодых годах… Как сожалею!
— Да я и сам сожалею, но только мне все равно, и я хочу отвсюду извлечь всё возможное. И не граф, а барон, всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки, из лакеев, да и не знаю почему, наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь «милым полисоном*». Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята en haut lieu.[6] Я с Зифелем-жидом на пятьдесят тысяч прошлого года фальшивых бумажек провел, да на него и донес, а деньги все с собой Юлька Charpentier de Lusignan увезла в Бордо. И, представьте, я уже совсем был помолвлен — Щевалевская, трех месяцев до шестнадцати недоставало, еще в институте, за ней тысяч девяносто дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как вы меня, лет пятнадцать назад, когда я еще был четырнадцатилетним пажом*, развратили?
— Ax, это ты негодяй, ну хоть тебя бог послал, а то здесь…
— Вы напрасно вашего соседа негоцианта заподозрили в дурном запахе… Я только молчал да смеялся. Ведь это от меня; меня так в заколоченном гробе и хоронили.
— Ax, какой мерзкий! Только я все-таки рада; вы не поверите, Клиневич, не поверите, какое здесь отсутствие жизни и остроумия.
— Ну да, ну да, и я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше превосходительство, — я не вас, Первоедов, — ваше превосходительство, другой, господин Тарасевич, тайный советник! Откликнитесь! Клиневич, который вас к m-lle Фюри постом возил, слышите?
— Я вас слышу, Клиневич, и очень рад, и поверь-те…
— Ни на грош не верю, и наплевать. Я вас, милый старец, просто расцеловать хочу, да, слава богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот grand-père[7] сочинил? Он третьего дня аль четвертого помер и, можете себе представить, целых четыреста тысяч казенного недочету оставил? Сумма на вдов и сирот, и он один почему-то хозяйничал, так что его под конец лет восемь не ревизовали. Воображаю, какие там у всех теперь длинные лица и чем они его поминают? Не правда ли, сладострастная мысль! Я весь последний год удивлялся, как у такого семидесятилетнего старикашки, подагрика и хирагрика, уцелело еще столько сил на разврат, и — и вот теперь и разгадка! Эти вдовы и сироты — да одна уже мысль о них должна была раскалять его!.. Я про это давно уже знал, один только я и знал, мне Charpentier передала, и как я узнал, тут-то я на него, на святой*, и налег по-приятельски: «Подавай двадцать пять тысяч, не то завтра обревизуют»; так, представьте, у него только тринадцать тысяч тогда нашлось, так что он, кажется, теперь очень кстати помер. Grand-père, grand-père, слышите:·
— Cher Клиневич, я совершенно с вами согласен и напрасно вы… пускались в такие подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия… я пожелал наконец успокоиться и, сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда всё…
— Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал. Катишь Берестову!
— Какую?.. Какую Катишь? — плотоядно задрожал голос старца.
— А-a, какую Катишь? А вот здесь, налево, в пяти шагах от меня, от вас в десяти. Она уж здесь пятый день, и если б вы знали, grand-père, что это за мерзавочка… хорошего дома, воспитанна и — монстр, монстр до последней степени! Я там ее никому не показывал, один я изнал… Катишь, откликнись!
— Хи-хи-хи! — откликнулся надтреснутый звук девичьего голоска, но в нем послышалось нечто вроде укола иголки. — Хи-хи-хи!
— И блон-ди-ночка? — обрывисто в три звука пролепетал grand-père.
— Хи-хи-хи!
— Мне… мне давно уже, — залепетал, задыхаясь, старец, — нравилась мечта о блондиночке… лет пятнадцати… и именно при такой обстановке…
— Ax, чудовище! — воскликнула Авдотья Игнатьевна.
— Довольно! — порешил Клиневич, — я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время; но какое время? Эй, вы, чиновник какой-то, Лебезятников, что ли, я слышал, что вас так звали!
— Лебезятников, надворный советник, Семен Евсеич, к вашим услугам и очень-очень-очень рад.
— Наплевать, что вы рады, а только вы, кажется, здесь всё знаете. Скажите, по-первых (я еще со вчерашнего дня удивляюсь), каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся? Что за фокусы?
— Это, если б вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить.
— Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу.
— Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот три месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к делу.
— К делу, к делу!..
— Он объясняет всё это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это — не умею вам выразить — продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три… иногда даже полгода… Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», — но и в нем, значит, жизнь всё еще теплится незаметною искрой…
— Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?
— Это… хе-хе… Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная — хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться… и что это, так сказать, последнее милосердие… Только мне кажется, барон, всё это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении…
— Довольно, и далее, я уверен, всё вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов — бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!
— Ax, давайте, давайте ничего не стыдиться! — послышались многие голоса, и, странно, послышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.
— Ax, как я хочу ничего не стыдиться! — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.
— Слышите, уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться…
— Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!
— Я понимаю, Клиневич, — пробасил инженер, — что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах.
— Ну, это мне наплевать! На этот счет подождем Kyдеярова, вчера принесли. Проснется и вам всё объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо! Завтра, кажется, притащат еще одного естественника, одного офицера наверно и, если не ошибаюсь, дня через три-четыре одного фельетониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними, но только нас соберется своя кучка и у нас всё само собою устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Всё это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!