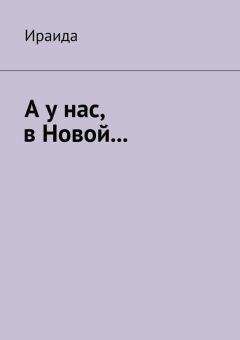Юрий Домбровский - Статьи, очерки, воспоминания
И вот тогда я получил одно очень странное и страстное письмо. Мне писал читатель, фамилию которого я сначала даже не разобрал - так она была невнятно написана на конверте. Читатель этот разбирал самую идею моей книги, и она ему нравилась. Он считал, что, хотя книга написана о расовой теории и на материале минувшей войны, еще даже не перешедшей в Отечественную (я брал захват Европы), но она не устарела, да и не может устареть до тех пор, пока фашизм, оставивший после себя на земле "огромные непродезинфицированные помойки", живет, обретает разные формы, проходит через все азы своей отнюдь не короткой стабильности, борьба с ним и с его прямыми и непрямыми потомками должна продолжаться с неослабной силой.
Этот читатель упоминал в письме о своем опыте, о своих переживаниях и о своей борьбе, и тогда, прочитав последнюю строчку этого великолепного письма, я, наконец, разобрал фамилию автора: "Степан Злобин". Я даже, помню, засмеялся от радости! Да, это был как раз тот отзыв, которого я так ждал. Я уже знал про Злобина, этого героя нашего времени, лагерника лагерей уничтожения, одного из тех недрогнувших, неподдавшихся, которые воистину "смертью смерть поправ". Это они разбили врага, выиграли войну, загнали под землю нацизм. Ими был подписан приговор в Нюрнберге. Мог ли я ожидать для себя отзыва более авторитетного и правдивого? И не для этого ли читателя или, вернее, не от лица ли этого читателя - и был написал мной роман?! В общем, я понял, что я получил все то, о чем мечтал, и сразу успокоился.
Встретил я Степана Павловича примерно через полмесяца. Он подошел ко мне после одного из мероприятий в нашем клубе - высокий, красивый, седой человек с совершенно молодым лицом, не тронутым морщинами, и звучным, тоже очень молодым голосом. Он говорил, а я, не отрываясь, смотрел на него. Физиономистика - неточная наука и даже, пожалуй, вообще не наука, но в ней есть такое определение: "героическое лицо" (как в истории живописи есть "героический пейзаж"), и к внешности Злобина оно подходило очень точно. Вероятно, было б проще всего сказать, что я видел перед собой борца - но это слово так же захватано и поэтому уже настолько неточно, что мне не хочется его употреблять... Я видел сильного, мужественного,, не отступившего перед всеми смертями человека, мягкого и доброго, доброжелательного и чуткого. Он был страстен и в то же время, пожалуй, несколько робок. Особенно это сказывалось в разговоре: то ли он тебе сказал, так ли ясно высказал свою мысль, понял ли ты его, не навязывает ли он тебе свои собственные, а значит и не обязательные для тебя суждения, - забота об этом все время сквозила в его словах, голосе, умолчаниях, пока он говорил с тобой. Но больше всего он любил все-таки не говорить, а слушать. Это был самый гениальный слушатель из всех, которых я когда-либо встречал. Он слушал, уходя весь в рассказ, переживая его вместе с тобой и стараясь не упустить ни одного слова. Иногда он переспрашивал, просил пояснить, развить и что-то отмечал в записной книжке или на листке бумаги. А вот о своих личных переживаниях во время войны и лагеря он никогда ничего не говорил, и только когда я, прочтя его двухтомную эпопею "Пропавшие без вести", сказал ему, что уж слишком много всякого рода приключений и испытаний падает на долю Емельяна и не убавить ли ему их, ведь не выдержит он один всего этого, не по человеческим силам это, Злобин как-то потупился, смешался, сконфузился и сказал мне как-то неловко:
- Да я уже думал, нет, не получается, я ведь и так все главное, что с ним случилось, отдал другим. Ведь это я - Емельян-то. Видишь как?!
Улыбнулся, развел руками, словно извиняясь, что так нелепо и смешно у него получилось.
Мир и вечная память тебе - Степан Павлович Злобин - большой человек, большой писатель, истинный герой нашего путаного, страшного и самоотверженного века! Мы еще встретимся с тобой, живым, в театре и на экране кино. Только боюсь, что ты будешь не больно похож, потому что передать тебя таким, каким ты был, труд, вероятно, непосильный ни одному актеру.
ВСТРЕЧИ СО СЛАВИНЫМ
Я слабо помню, как я впервые увидел и познакомился со Львом Исаевичем. Кажется, это произошло лет 20 тому назад в Доме литераторов. В то время еще не было возведено то великолепное многоэтажное здание с рестораном, разнообразными буфетами, биллиардной, концертными и выставочными залами, переходами, лестницами, лифтами, кабинетами - простыми и особыми, - которое так гордо взметнулось на улице Герцена и как бы поглотило, растворило в себе особняк Ольсуфьевского дома, что на улице Воровского, Вот, кажется, именно на этой уличке и в этом особняке, в скромной узкой комнате, похожей скорее на коридор, чем на зал ресторана, я и подошел к Льву Исаевичу, представился и познакомился. Потому подошел и познакомился, что большого писателя Льва Славина я знал давно и знакомству этому ныне пошел 47 год, великая часть человеческой жизни. Вот это-то знакомство я помню очень ясно.
Произошло оно летом 30 года, в Лефортовском военном госпитале, где я работал тогда санитаром. Днем я сбивался с ног, а ночью, когда все затихало, - и телефоны, и души, и посетители, - я сидел на широком, - еще екатерининском, - подоконнике и читал. Толстых журналов тогда выходило примерно столько же, как и сейчас. Уже были "Молодая гвардия", "Звезда", "Новый мир", "Октябрь", "Сибирские огни". Но выходил и еще один журнал самый почтенный и уважаемый, основанный лично Лениным, - "Красная новь". Люди моего поколения помнят его бурые обложки, твердые, крепко схваченные и жестко сброшюрованные книжки, хрустящие и белые страницы, отпечатанные, как мне сейчас кажется, на какой-то хорошей, особенно чистой бумаге. Вот там-то не то в июле, не то в августе я и повстречал дотоле мне неизвестное имя Льва Славина и название романа "Наследник". И стал читать этот роман и когда отложил его, было уже утро.
Есть разные встречи с большими произведениями искусства, в иные входишь трудно, откладываешь книгу, отходишь от картины, бродишь, думаешь, переводишь дыхание, отдыхаешь и потом все-таки идешь дальше, потому что ты уже заболел этим произведением, потому что уже чувствуешь, что главное где-то впереди. И вот узкая дорожка вдруг расширяется, становится легче дышать и двигаться, и перед тобой блеснула ясная даль широкого романа, И есть книги совсем другие - автор встречает тебя у входа, берет тебя за руку и, непринужденно разговаривая, иногда шутя, а иногда не допуская никаких шуток, ведет тебя за собой, И ты послушно следуешь за ним, слушаешь его отчетливый ясный гибкий голос. Идешь, идешь и не замечаешь дороги, не чувствуешь тяжести пройденных сотен страниц - тебе легко, свободно дышится, ты весь находишься в обаянии правды, ясности и огромной внутренней силы, ума, независимости и свободы своего провожатого. Вот такое впечатление с первых же строк произвел на меня роман Славина "Наследник". Я шел и шел за ним - добрым, простым, ясным человеком. Он так дружески, непринужденно говорил со мной о славном юноше Иванове, о всех смешных и чудных происшествиях. И вот ведь удивительно: рассказывается самая обыкновенная, если хотите, даже немного пошленькая история похождений некого молодого одесского фендрика, этакого чудесного парня из богатой еврейской семьи. На него в августе 1916 года свалилась самая большая неприятность, какую только можно выдумать: к нему пришла повестка от воинского начальника. Его призвали в армию, сражаться с коварными тевтонами - за веру, царя и отечество. А фендрику было наплевать на всю эту великолепную тройку, они были для него величины абстрактные, несуществующие, для него реальна была только Одесса-мама с ее ресторанами, портами, бульварами, биллиардными, где витала обворожительная Тамара Павловна, "равно всем общая, как чаша круговая" - это уже не Лев Славин, это Александр Пушкин. А над всем этим гордая, обожаемая и злая, недоступная Катя - невеста негодяя с черными зубами, поручика Третьякова. Как же бросить все это? Иванов, так фамилия фендрика, сына того самого Иванова, которого мы можем увидеть в Художественном театре, начинает "оттягиваться" - т. е. расшатывать свое здоровье. Ему нужны сердечные перебои, нервный тик, хрипы в легких - все кроме венерических болезней, ибо, как сказал дедушка, - они не освобождают. И вот разворачивается это одесскохохмаческая клоунада, приключения, как будто нарочно списанные из плутовского романа, смешные страдания, жалкие озарения. Здесь все ненастоящее, все поддельное, натянутое, вырезанное из раскрашенной фанеры, все дрыгает, мельтешит, изворачивается, как в театре марионеток. Что здесь может быть настоящего? Что здесь достойно человека? Но пройдя через эти пышно намалеванные декорации, леса ресторанных пальм, юноша становится настоящим человеком. Он понимает, что действительность, к которой он так серьезно относился, тоже абстракция, видимость жизни, а не жизнь. Пробужденный каким-то толчком, вдруг поднял голову и увидел все шнурочки, резиночки, веревочки, которыми все это приводилось в движение и казалось живым. С ним произошло великое чудо перерождения, он, говоря словами Радищева, "взглянул окрест себя". Я пытаюсь тут очень коротко и, как сам вижу, не больно складно передать то, что посетило меня осенью 30 года, когда я закрыл последнюю десятую книжку "Красной нови".