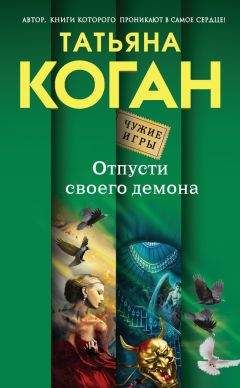Сергей Сергеев-Ценский - Том 2. Произведения 1909-1926
Беневоленский не дослушал даже, — возмущенно ударил себя рукой по колену.
— Нну, батюшка!.. И зачем вам было связываться с ним, с этим учителем, — не понимаю!.. Не везет вам! Удивительно не везет!.. Нет, знаете, — редкостно не везет!.. И так у вас дело трудное, — все показания против вас, а вы еще тут… Эх, Антон Антоныч!
— Ну что ж я такого плохого сделал, скажите? Что он меня собрался ку-сать раньше времени, так я должен молчать?
Он думал, что вот рассмеется Беневоленский и скажет, как прежде «Чепуха какая!» — но тот смотрел на него серьезно, сухо и как будто даже подозрительно и говорил свое новое:
— Эх, Антон Антоныч!
И у Елены Ивановны, сидевшей с ним до его прихода, был почему-то неприкрыто растерянный, встрепанный вид.
XVIIНа суде Антон Антоныч замечал все, потому что все было ново, смешно и торжественно. Что его нельзя осудить и что не осудят, — он знал, но было чувство оглушающего позора, которому хотелось не верить. С него, свободного всю жизнь, сняли все, даже имя, и не только чужие, не знавшие его люди, но и конторщик Митрофан, и садовник Дергузов, и тростянская баба Марья Калина, — точно с какой-то незапятнанной высоты смотрели на него и говорили о нем: подсудимый. Хотелось встать и засмеяться вдруг, хотелось крикнуть и обругаться, плюнуть на этот захоженный, давно крашенный пол и уйти. Но на председателе и членах суда, и прокуроре, и секретаре, совсем еще молодом, с безусым, немного перекошенным лицом, лежала не рабочая деловитость, которую привык видеть на лицах Антон Антоныч, а какая-то тупая важность. Важность эта перекинулась и на скамьи присяжных, и даже толстый Голев, выступавший как свидетель, надел новый длиннополый сюртук и зачем-то очки в золотой оправе, хотя смотрел поверх оправы, прижимая как можно ближе к груди жирный бычий подгрудок, точно думал бодаться.
День был ясный, и солнце било в одно окно прямо в лицо председателю. Засиял лоб, четко, очень ярко и красиво проступили морщины, в бороде отчеканился каждый волос, глаза стали лучистые и теплые, как это кажется в детстве на иконах, и иконным золотом переливисто сверкала цепь. Но он прятался, морщился и, перегнувшись, попросил, наконец, секретаря закрыть окно сторой.
Среди присяжных нашел глазами Антон Антоныч и того учителя с хрящеватым носом, которого он похлопал по плечу вчера в бакалейной лавке. Смотрел теперь на него учитель непростившими глазами; был он в форме, в белой глаженой рубахе и с каким-то орденом в петлице. Еще был в форме старшина присяжных, отставной подполковник, старик с висячими усами, лупоглазый, старавшийся сидеть ровно, держаться прямо и слушать все до последнего слова строго.
На столе, заляпанном чернилами, лежали тряпки, вата и коробочка с перегоревшим фосфором. Красное сукно, которым были обиты места присяжных, поистерлось и залоснилось. Зал был большой, но какой-то неопрятный, подержанный, с низковатым потолком, запачканными печами и щелистым полом, и воздух был спертый, нагретый и пыльный. Антон Антоныч глядел кругом и брезгливо передергивал ноздрями.
Бабы, которые были на молотьбе во время пожара, давали показания невнятными, пугливыми голосами, переспрашивали, не понимали вопросов, часто сморкались. Но когда щупали тряпку и вату — радостно оживлялись вдруг: «Это самое!»
Машинист Шлыгин опять рассказывал об «искусстве», размахивал левой рукой, а правой приглаживал волосы, торчавшие пиками. Дергузов стоял прочно и говорил подробно и не спеша, сопя бородавчатым носом, а похудевший, подсохший, должно быть бывший без места, Митрофан все путал что-то, но припомнил, как за ним гонялся с ружьем Антон Антоныч.
Голев недаром надел очки в золотой оправе. Пыхтя и отдуваясь после каждых двух-трех слов, точно плыл и глотал воду, он рассказал, что солому Антон Антоныч должен был оставить ему бесплатно, потому что солома всегда нужна в хозяйстве и без соломы нельзя, что таков вообще обычай, и потому он не говорил об этом особо при покупке.
— Так солома ж была этого года, а урожай этого года я за собой оставил, как сказать, — вскочил с места Антон Антоныч.
— Солома — не урожай, — уверенно сказал Голев. — Урожай считается — зерно… А если одна солома, например, уродит, тогда уж никто не скажет, что урожай… Тогда уж плохо-с…
— Этто штука нова и свежа!.. Так солома, значит, ничего и не стоит, а? Что ж такое солома? — спросил озадаченный Антон Антоныч.
Председатель попросил его сесть.
Но гражданский истец, бритый, как актер, тщедушный и желтый, с приглаженными, как у покойников, височками, торопливо подпрыгивал на стуле и долго расспрашивал Голева о соломе, о зерне, о продаже Тростянского имения и об обычаях при продажах.
Урядник Самоквасов рассказал о бунте мужиков, тряпке и жеребце Забое, и прокурор, и председатель, и бритый адвокат долго допрашивали Самоквасова.
Веденяпин пришел в суд в сюртуке, от этого он, и без того крупный, стал как-то еще крупнее. Говорил он с достоинством, спокойно, голосом ровным и сочным, только слово «подсудимый» он как-то особенно затягивал и округлял и старался совсем не глядеть в сторону Антона Антоныча. Все в нем теперь — и блестящие взлизы на лбу, и кадык, и этот голос — было так противно Антону Антонычу, что он совсем уже не мог понять, как это они были друзьями, говорили друг другу «ты» и целовались при встречах; и теперь, когда вспоминалось это, то все хотелось отплюнуться: посмотрит на него, покачает головою, вспомнит и громко плюнет.
А Веденяпин рассказывал о том, как Антон Антоныч оценил свою солому в тысячу шестьсот рублей, когда было ее не больше, чем на тысячу двести, и как он ему поверил, как другу. И о Куке, химике, почему-то сказал он вскользь и припомнил много случаев из жизни Антона Антоныча, случаев все мелких и не идущих к делу, самим же Антоном Антонычем и рассказанных ему под веселую руку, но здесь, в суде, как-то неожиданно его чернящих.
Беневоленский спросил, за что его выгнали из полка, но с большим достоинством, строго глядя на него желтыми глазами, ответил он, что сам по своей доброй воле подал прошение об отставке; и опять голос у него стал барский и осанка, как у лихого ротмистра.
Когда же допрос его, как свидетеля, был окончен, он, точно случайно вспомнив, вынул из кармана длинное письмо Антона Антоныча, в котором тот проклинал его и при первом же свидании обещал изувечить, и передал его председателю. Письмо это было прочитано почти полностью. Потом секретарь нашел присланное в суд письмо Антона Антоныча судебному следователю с опухшей щекой, — и это письмо тоже прочитали.
Так все это сгущалось и нависало ниже и ниже. После первого дня Беневоленский говорил Антону Антонычу:
— Неужели так-таки и нельзя было найти ни одного свидетеля в вашу пользу?.. Не ожидал, что будет такое дело.
А после второго он спросил тихо Елену Ивановну:
— Как защитнику, — это все равно, что священнику на духу, — скажите мне уж, так и быть, — ведь это действительно ваш муж поджег солому?
На третий день суда, всю ночь перед тем не спавший, Антон Антоныч поднялся вдруг и сказал:
— Я хочу, и должен даже, сделать свое заявление… Позволите ли мне это, господин председатель?
Председатель позволил.
— Господа судьи! — начал Антон Антоныч, глядя прямо в глаза отставного военного, сидевшего ближе всех к прокурору. — Я третий день сижу здесь и слушаю, господа судьи!.. «Подсудимый» и «подсудимый», и больше уж и имени у меня нет, как подсудимый. Ни один человек, — а их тут тридцать человек говорило, — слова обо мне доброго не сказал… Как же ж так? За что ж меня в грязь втоптали?.. Или я действительно злодей, преступник, поджигатель?.. Так-то смешно даже и думать… То даже стыдно, смешно и грех… и гре-ех даже думать!.. Четыреста пятьдесят тысяч состояния имея, об этом смешно даже и говорить, чтобы на четыреста рублей я польстился, как сказать… Я целую жизнь свою работал, я никого не грабил на большой дороге, я не бесчестными путями, — я ночами бессонными состояние себе нажил, потом и кровью, з десяти пальцев… Боже мой! За что же меня так в грязь топчут?.. И кто топчет?.. И что я стал бы об это руки себе марать, как воришка драный, как… ммышь, — как же это говорить смеют? На позорный столб выставить? Меня? Об этом нужно кричать на весь свет, да, на весь свет!.. Тысячи народу около меня кормились, тысячам я рроботу давал, как сказать, и где не было никакого дела, где им никому и не пахло даже за сто верст, тут я его и подымал за ноги, тут я его из земли и выкапывал, как… как камень… Бессонными ночами!.. Спать… спать уж я в землю пойду!.. Я себе за пятьдесят семь лет не накохал брюха, — нет, это вы видите… Я по театрам в городах не сидел, я брильянтов певицам не подносил, как сказать… Я не считал, что у меня в делах пропало, — это не четыреста рублей, а, может, те же четыреста тысяч, но что в деле пропало, то свято, тому аминь та Requiem pace… В мои года и з моим состоянием я мог бы жить in gloria, на лаврах, но без работы я не могу, на лаврах я не могу, нет, то пусть уж другие на лаврах, а не я… Из лавров я, уж так и быть, паприкаш себе з перцем сварю да съем… Но меня только это одно удивляет, господа судьи, что как легко у нас честного имени лишиться… Или уж это действительная правда, что кто захочет собаку ударить, тот палку себе найдет, — ну так все ж таки нужно, чтобы было за что бить… Зря бить и собаку нельзя! Я людям верил… Я вот до скольких лет уже дожил, а людям все время верил… и верю… Пока человек мне пакости не сделал, — я каждому — друг… Верю! Ни одна душа в мире не может сказать, что я остался ей должен хотя бы од-ну копейку… Кто с меня что заработал, тот свое получил… честно…