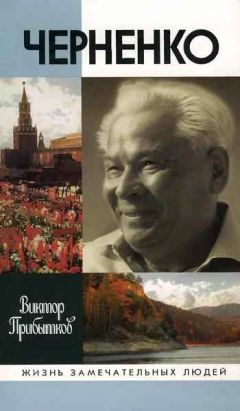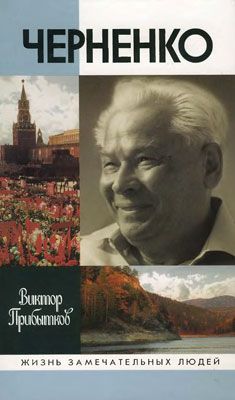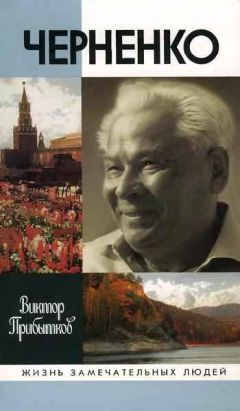Михаил Пыляев - Замечательные чудаки и оригиналы
Державин в своей «Оде к вельможе» упоминает о нем:
Всяк думает, что он Чупятов,
В мароккских лентах и звездах.
Чупятов в обществе, ради его странного помешательства, был всегда желанным гостем, даже у высокопоставленных лиц. Являясь в гости, он вел разговор как человек здравый до тех пор, пока не покажут ему, ради потехи, курицу, разукрашенную лентами. Как только Чупятов увидит такую курицу, так и понесет всякий вздор, воображая, что курица есть воплощенный дух, присланный ему от мароккской королевы.
Существует рассказ, что когда государыня, после осмотра Вышневолоцкого канала в 1785 г., находилась в Успенском соборе, вдруг протеснился вперед Чупятов, разукрашенный лентами и звездами. Государыня спросила главнокомандующего, кто это, и, услышав, что это какой-то помешанный, сказала: «Почему он у вас на свободе? Для подобных людей место в заведении».
Что касается приведенного рассказа, то трудно допустить возможность приказа Екатерины II, ко всем снисходительной, о лишении свободы чудака, никому не вредившего.
В человеческой натуре бывают очень странные вкусы. Лет двадцать тому назад еще здравствовал один довольно высокопоставленный человек, который из любви к искусству выучился рвать зубы. Он никогда не выходил из дому без футляра с зубными инструментами в кармане, как другой без портсигара. Ко всем он в зубы так и заглядывал. Беда тому, кто при нем заикнется, что у него зуб болит или болел: он так на него сейчас и кинется и с инструментом в рот залезет. Нередко за свое искусство он претерпевал даже личные неприятности, но все-таки своей «дантистики», как он выражался, не покидал. До коллекционерства почтовых марок существовало несколько собирателей сургучных печатей. Из числа любителей таких редкостей был известный князь Гор-в, который начал с того, что хранил печати всех полученных писем, потом просил всех своих знакомых, чтобы они отдавали ему конверты писем, и, наконец, начал отыскивать и платить за печати и собрал больше тридцати тысяч оттисков на сургуче. В коллекции князя было много редких печатей XVI, XVII и последующих веков. В числе таких любопытных у него была печать, на которой изображен открытый ящик Пандоры с надписью: «любопытство погубило свет»; на другом изображен амур, держащий записочку, а вокруг него слова: «полиции нечего тут смотреть»; на третьем – бежит собака с письмом и надпись говорит: «скорее и вернее почты». На одном вырезано: «распечатано по приказанию». На печати, принадлежавшей Виктору Гюго, вырезаны слова: «делать и делать», на печати Мишле «Крылья»; на печати Бальзака вырезано старинным правописанием: «Ум обязывает»; на печати Альфреда Мюссе видны таинственные слова, напоминающие время, памятное одному, забытое другими: «С того времени». На письме Фридерики Сулье странный девиз: «Нет выхода в смерти». На печати Александра Дюма было написано: «Ничто не вечно под луной», Эмиля Сувестра – слова: «Надеяться и не бояться». На печати Шарля Нобле виднелось банальное изображение: пылающее сердце, пронзенное стрелою, с надписью: «Разум этого хочет». На печати Адольфа Адана: «Я надеюсь, но боюсь». На печати певца Нурри изображен был Гарпократ, держащий палец на губах со словами: «Тише, тише, тише!» Эта печать была подарена Нурри одним его поклонником. Нурри имел привычку, когда он должен был петь вечером, молчать весь день и только шикал, если кто говорил. На печати композитора Герольда стояли слова: «Ничего прекрасного без случайности». Самую большую коллекцию таких печатей Гор-ов купил у француза Бландо за 30 ООО руб., всех печатей там было 30 ООО штук. Цена, как видим, довольно высокая за несколько фунтов сургуча!
В тридцатых годах вся Москва знавала одного очень богатого помещика, делавшего с раннего утра визиты по своим знакомым. Он не жил никогда в деревне, а вечно проживал в Москве или в своей подмосковной, близ Сокольников; придворное звание его не позволяло ему покинуть столицу: еще юношей, благодаря своему родовому положению, он был пожалован в камер-юнкеры и с этим званием прослужил чуть ли не до семидесяти лет. В обществе он был известен под именем камер-юнкера Рококо.
Кличку эту он заслужил вот по какому случаю: средств у него было много, даже слишком; один дом его занимал почти целую площадь – с садом, огородом, прудами и т. д., пристроек в его доме было множество, на дворе так было много разных домиков, павильонов, хижинок, что все это казалось чуть ли не целым уездным городком. Про его дом в Москве ходило немало рассказов; уверяли даже, что там находило себе убежище немало темного люда. Самый же дом, в котором жил камер-юнкер Рококо, состоял из двух длинных этажей; один огромный бельэтаж с нескончаемою анфиладою комнат мог бы послужить казармой для целого полка солдат. Комнаты эти были убраны великолепно, в них было много царской пышности – парча, бархат, атлас, позолота, мрамор, гобелены, статуи, античная бронза, китайский фарфор, словом все, что могло служить украшением царственного жилья.
Но все это в этих барских апартаментах было расставлено, развешано, размещено с таким безвкусием и в таком беспорядке, что с первого взгляда казалось, что все эти драгоценные вещи были свезены сюда на продажу, как в лавку, и только дожидаются покупателей, чтобы быть вынесенными для приведения их в более стройный порядок. Когда посетители спрашивали хозяина об этом хаотическом беспорядке в его апартаментах, об этой дорогой китайской бронзе, смешанной с простыми глиняными деревенскими кубарями, с чугунами или ухватами, о прекрасных старых картинах вместе с разными мазилками крепостных Рафаэлей, хозяин слушал равнодушно все подобные замечания, и, казалось, его даже это еще радовало. Камер-юнкер Рококо был страшно упрям. «Знаю, очень хорошо знаю, – отвечал он, – но я, знаете, люблю, чтобы у меня все было „рококо“, – видимо, сам не разумея этого слова. И пошел с тех пор гулять наш камер-юнкер под этим именем – Рококо. Этот оригинал жил не для себя, а для своих многочисленных знакомых, веселился не сам, а веселил своих знакомых. Все его увеселения носили отпечаток неподражаемой оригинальности, он тешил себя и других дорогими игрушками. Он только и мечтал о том, что бы изобресть для вечера или для обеда. Он, как и гоголевский Петух, призывал к себе по утрам своего старика-повара Яшку и дворецкого Прошку, грабивших своего барина без милосердия. Особенно обеды и завтраки стоили ему много дум и забот; задумав раз угостить своих гостей в посту по-монастырски, он закатил обед более чем в сто блюд. В меню входили: папошники, пироги долгие, косые и круглые из щучьей телесы, пирожки маленькие с телом рыбы, пряжья, кашка молочная с пшеном сорочинским, присол из живых щук, щука колодка, огнива белужья в ухе, звено лосося, звено семги, полголовы осетра и белуги просольной, лещи паровые, стерляди и т. д. Но особенно отличился он за десертом, где цукатные пироги, кремы, марципаны, желе и другие сладкие яства подавались на досках – на обыкновенных блюдах поместиться последние не могли.
Прислуга при русских обедах из простых лакеев превращалась в прислугу, бывшую в княжеской и боярской среде, т. е. в стряпчих, стольников, кравчих, чашников и т д.; последних он наряжал в археологические одежды. В другой раз придумал он угостить своих гостей лебедями, чтобы достать эту птицу, командирует он в подмосковное село Ц-но, и здесь ловкий дворецкий покупает декоративную птицу у немца управляющего за баснословные деньги.
И вот такая птица, с раззолоченными носами и растопыренными крыльями, подается целиком на стол; начинка ее была самая мудреная, с шафраном, лимонами, имбирем и разными пахучими травами. Для обедов в древнем вкусе он закупал по дорогой цене павлинов, журавлей, рысей, лосей, но на такие обеды редко стали ездить гости, крепкие желудки их не могли выдерживать, и с сожалением говорил наш амфитрион, что измельчали желудки у людей. Рассердившись за такое невнимание к «чревобесию предков», он сделался французским гастрономом, переманил к себе лучшего повара из английского клуба и задумал соперничать с Рахманиным, известнейшим гастрономом, тратившим на свои немногочисленные угощения шальные деньги.
После этого его кухня преобразилась на рахманинский лад: в ней появились большие пальмовые и мраморные столы, полки красного дерева, бронзовые карсельские лампы и дорогая мебель, на которую он сажал своих гостей, приготовляя сам некоторые блюда. Не раз он давал лукулловские обеды на своей кухне. Но главное, что любил наш камер-юнкер Рококо, это неожиданные сюрпризы, на них он был помешан. То он приглашал гостей собирать в саду белые грибы, которые за два дня скупал возами по всей Москве и заставлял их натыкать в одном месте своего сада, чтобы не ходить далеко гостям. То он раздавал билеты на уженье в его прудах рыбы – около его пруда стояли беседки-плоты, и в этих местах втыкались удочки. Каждая дама вынимала билет, как в лотерее, на счастье, что кому Бог пошлет, и в самом деле, счастье было удивительное для рыболовов; то выуживали из тинистого пруда стерлядь, уже давно уснувшую, то огромного осетра, то налима или другую какую-нибудь замечательную рыбу. Однажды, как уверяли, кто-то выудил даже малосольную севрюжину.