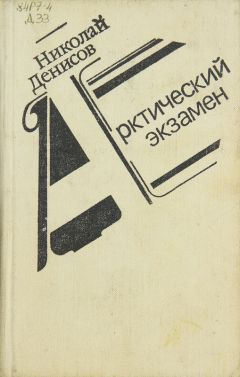Лев Толстой - Том 5. Война и мир
— Ну, хорошо, хорошо, — закричал Денисов, — теперь нечего отговариваться, за вами barcarolla*, умоляю вас.
Графиня оглянулась на молчаливого сына.
— Что с тобой? — спросила мать у Николая.
— Ах, ничего, — сказал он, как будто ему уже надоел этот все один и тот же вопрос. — Папенька скоро приедет?
— Я думаю.
«У них все то же. Они ничего не знают! Куда мне деваться?» — подумал Николай и пошел опять в залу, где стояли клавикорды.
Соня сидела за клавикордами и играла прелюдию той баркароллы, которую особенно любил Денисов. Наташа собиралась петь. Денисов восторженными глазами смотрел на нее.
Николай стал ходить взад и вперед по комнате.
«И вот охота заставлять ее петь! Что она может петь? И ничего тут нет веселого», — думал Николай.
Соня взяла первый аккорд прелюдии.
«Боже мой, я бесчестный, я погибший человек. Пулю в лоб — одно, что остается, а не петь, — подумал он. — Уйти? но куда же? Все равно, пускай поют!»
Николай мрачно, продолжая ходить по комнате, взглядывал на Денисова и девочек, избегая их взглядов.
«Николенька, что с вами?» — спросил взгляд Сони, устремленный на него. Она тотчас увидала, что что-нибудь случилось с ним.
Николай отвернулся от нее. Наташа с своею чуткостью тоже мгновенно заметила состояние своего брата. Она заметила его, но ей самой было так весело в ту минуту, так далека она была от горя, грусти, упреков, что она (как это часто бывает с молодыми людьми) нарочно обманула себя. «Нет, мне слишком весело теперь, чтобы портить свое веселье сочувствием чужому горю», — почувствовала она и сказала себе: «Нет, я, верно, ошибаюсь, он должен быть весел так же, как и я».
— Ну, Соня, — сказала она и вышла на самую середину зала, где, по ее мнению, лучше всего был резонанс. Приподняв голову, опустив безжизненно-повисшие руки, как это делают танцовщицы, Наташа, энергическим движением переступая с каблучка на цыпочку, прошлась посередине комнаты и остановилась.
«Вот она я!» — как будто говорила она, отвечая на восторженный взгляд Денисова, следившего за ней.
«И чему она радуется! — подумал Николай, глядя на сестру. — И как ей не скучно и не совестно!» Наташа взяла первую ноту, горло ее расширилось, грудь выпрямилась, глаза приняли серьезное выражение. Она не думала ни о ком, ни о чем в эту минуту, и из в улыбку сложенного рта полились звуки, те звуки, которые может производить в те же промежутки времени и в те же интервалы всякий, но которые тысячу раз оставляют вас холодным, в тысячу первый раз заставляют вас содрогаться и плакать.
Наташа в эту зиму в первый раз начала серьезно петь и в особенности оттого, что Денисов восторгался ее пением. Она пела теперь не по-детски, уж не было в ее пении этой комической, ребяческой старательности, которая была в ней прежде; но она пела еще не хорошо, как говорили все знатоки-судьи, которые ее слушали. «Не обработай, но прекрасный голос, надо обработать», — говорили все. Но говорили это обыкновенно уже гораздо после того, как замолкал ее голос. В то же время, когда звучал этот необработанный голос с неправильными придыханиями и с усилиями переходов, даже знатоки-судьи ничего не говорили и только наслаждались этим необработанным голосом, и только желали еще раз услыхать его. В голосе ее была та девственность, нетронутость то незнание своих сил и та необработанная еще бархатность, которые так соединялись с недостатками искусства пения, что, казалось, нельзя было ничего изменить в этом голосе, не испортив его.
«Что ж это такое? — подумал Николай, услыхав ее голос и широко раскрывая глаза. — Что с ней сделалось? Как она ноет нынче?» — подумал он. И вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следующей ноты следующей фразы, и все в мире сделалось разделенным на три темпа: «Oh mio crudele affetto…[20] Раз, два, три… раз, два… три… раз… Oh mio crudele affetto… Раз, два, три… раз. Эх, жизнь наша дурацкая! — думал Николай. — Все это, и несчастье, и деньги, и Долохов, и злоба и честь, — все это вздор… а вот оно — настоящее… Ну, Наташа, ну, голубчик! ну, матушка!.. Как она этот si возьмет… Взяла? Слава богу! — И он, сам не замечая того что он поет, чтобы усилить этот si, взял втору в терцию высокой ноты. — Боже мой! как хорошо! Неужели это я взял? как счастливо!» — подумал он.
О, как задрожала эта терция и как тронулось что-то лучшее, что было в душе Ростова. И это что-то было независимо от всего в мире и выше всего в мире. Какие тут проигрыши, и Долоховы, и честное слово!.. Все вздор! Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым…
XVI
Давно уже Ростов не испытывал такого наслаждения от музыки, как в этот день. Но как только Наташа кончила свою баркароллу, действительность опять вспомнилась ему. Он, ничего не сказав, вышел и пошел вниз в свою комнату. Через четверть часа старый граф, веселый и довольный, приехал из клуба. Николай, услыхав его приезд, пошел к нему.
— Ну что, повеселился? — сказал Илья Андреич, радостно и гордо улыбаясь на своего сына. Николай хотел сказать, что «да», но не мог: он чуть было не зарыдал. Граф раскуривал трубку и не заметил состояния сына.
«Эх, неизбежно!» — подумал Николай в первый и последний раз. И вдруг самым небрежным тоном, таким, что он сам себе гадок казался, как будто он просил экипажа съездить в город, он сказал отцу:
— Папа, я к вам за делом пришел. Я было и забыл. Мне денег нужно.
— Вот как, — сказал отец, находившийся в особенно веселом духе. — Я тебе говорил, что недостанет. Много ли?
— Очень много, — краснея и с глупой, небрежной улыбкой, которую он долго потом не мог себе простить.
сказал Николай. — Я немного проиграл, то есть много, далее очень много, сорок три тысячи.
— Что? Кому?.. Шутишь! — крикнул граф, вдруг апоплексически краснея шеей и затылком, как краснеют старые люди.
— Я обещал заплатить завтра, — сказал Николай.
— Ну!.. — сказал старый граф, разводя руками, и бессильно опустился на диван.
— Что же делать! С кем это не случалось, — сказал сын развязным, смелым тоном, тогда как в душе своей он считал себя негодяем, подлецом, который целою жизнью не мог искупить своего преступления. Ему хотелось бы целовать руки своего отца, на коленях просить его прощения, а он небрежным и даже грубым тоном говорил, что это со всяким случается.
Граф Илья Андреич опустил глаза, услыхав эти слова сына, и заторопился, отыскивая что-то.
— Да, да, — проговорил он, — трудно, я боюсь, трудно достать… с кем не бывало! да, с кем не бывало… — И граф мельком взглянул в лицо сыну и пошел вон из комнаты… Николай готовился на отпор, но никак не ожидал этого.
— Папенька! па…пенька! — закричал он ему вслед, рыдая, — простите меня! — И, схватив руку отца, он прижался к ней губами и заплакал.
В то время как отец объяснялся с сыном, у матери с дочерью происходило не менее важное объяснение. Наташа, взволнованная, прибежала к матери.
— Мама!.. Мама!.. он мне сделал…
— Что сделал?
— Сделал, сделал предложение. Мама! Мама! — кричала она.
Графиня не верила своим ушам. Денисов сделал предложение. Кому? Этой крошечной девочке Наташе, которая еще недавно играла в куклы и теперь еще брала уроки.
— Наташа, полно, глупости! — сказала она, еще надеясь, что это была шутка.
— Ну вот, глупости! Я вам дело говорю, — сердито сказала Наташа. — Я пришла спросить, что делать, а вы говорите: «глупости»…
Графиня пожала плечами.
— Ежели правда, что мосье Денисов сделал тебе предложение, хотя это смешно, то скажи ему, что он дурак, вот и все.
— Нет, он не дурак, — обиженно и серьезно сказала Наташа.
— Ну, так что ж ты хочешь? Вы нынче ведь все влюблены. Ну, влюблена, так выходи замуж, — сердито смеясь, проговорила графиня, — с богом!
— Нет, мама, я не влюблена в него, должно быть, не влюблена в него.
— Ну так так и скажи ему.
— Мама, вы сердитесь? Вы не сердитесь, голубушка, ну в чем же я виновата?
— Нет, да что же, мой друг? Хочешь, я пойду скажу ему, — сказала графиня, улыбаясь.
— Нет, я сама, только вы научите. Вам все легко, — прибавила она, отвечая на ее улыбку. — А коли бы вы видели, как он мне это сказал! Ведь я знаю, что он не хотел сказать; да уж нечаянно сказал.
— Ну, все-таки надо отказать.
— Нет, не надо. Мне так его жалко! Он такой милый.
— Ну, так прими предложение. И то, пора замуж идти, — сердито и насмешливо сказала мать.
— Нет, мама, мне так жалко его. Я не знаю, как я скажу.
— Да тебе и нечего говорить, я сама скажу, — сказала графиня, возмущенная тем, что осмелились смотреть, как на большую, на ее маленькую Наташу.
— Нет, ни за что, я сама, а вы идите слушайте у двери, — и Наташа побежала через гостиную в залу, где на том же стуле, у клавикорд, закрыв лицо руками, сидел Денисов. Он вскочил на звук ее легких шагов.