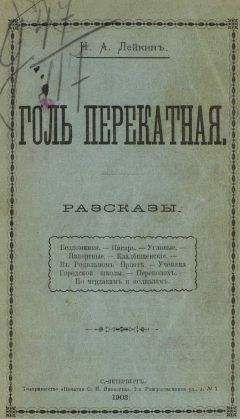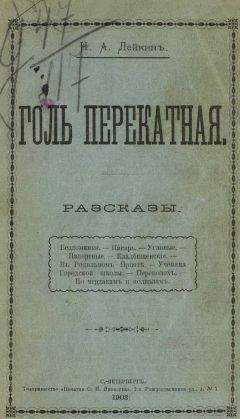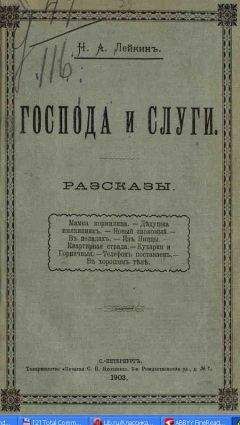Николай Лейкин - Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова
18 ноября. Утро
Вчера опять весь день думал, как бы мне достичь «савуар вивра». С этой мыслью заснул и видел довольно странный сон.
Вижу, что будто бы прогуливаюсь я по набережной Фонтанки, и странное дело, в каждом выкрике разносчика, в стуке экипажных колес, в свистке городового, в предложении извозчика своих услуг — одним словом, во всем слышу любезные мне два слова «савуар вивр». В великой радости встречаюсь у самого Цепного моста с приятелем моим Митрофаном Флюгаркиным, но вот диво, даже и он вместо обычного «здравствуй», приветствует меня словами: «желаю тебе „савуар вивра“.
— Как, неужели и тебе засели в голову эти слова! — воскликнул я.
— Какие слова? — изумился он.
— А вот эти, что ты сейчас произнес?
— Это пожелание савуар вивра-то, что ли? Помилуй, да это нынче в большой моде и постепенно вытесняет наши прежние приветствия, давно уже намозолившие всем языки. Вместо здравствуй теперь говорят: „желаю тебе савуар вивра“; вместо вопроса „как ваше здоровье“ спрашивают, как ваш савуар вивр.
Я улыбнулся, но Флюгаркину поверил, так как он все-таки человек сведущий.
— Ну, скажи, пожалуйста, как же достичь этого „савуар вивра“? — спросил я.
— Очень просто, стоит только не иметь ничего заветного: ни совести, ни чести, ни убеждений, ни веры, ни жены, ни любовницы и при случае более или менее выгодно продавать их. Положим, что ввиду сильного предложения этих предметов цены на них не высоки, но с умением можно и в розницу поторговать очень выгодно. Ты сам знаешь, курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Теперь для этой цели устраивается даже еженедельный аукцион, где продаются все эти предметы с молотка. Аукцион этот бывает каждую субботу в бывшем Соляном Городке, а так как сегодня суббота и мы близ Городка, то не хочешь ли войти в него и посмотреть аукцион?
Я согласился. Мы отправились и, сделав несколько шагов, вошли в здание Соляного Городка.
Большая зала кишела народом и отличалась, как и все аукционы, крайним беспорядком. Публика была самая разнообразная, начиная от мужика, старой салопницы и кончая генералом и пышной барыней, в сопровождении ливрейного лакея. Все это бродило, стояло, сидело в разных позах, хвасталось покупками, рассматривало их, перетряхивало и взбалтывало. У задней стены залы помещался амвон. На амвоне за столом сидел, как водится, аукционист с молотком в руке; рядом с ним помещался секретарь с книгами, а поодаль стояла горка с бутылками, банками и коробками, наполненными предметами, подлежащими аукционной продаже. Ярлыки на банках и бутылках имели надписи, вроде: добросовестность чиновничья, добросовестность купеческая, добросовестность актерская, литературные убеждения, женская любовь, женина честь, продаваемая мужем, и т. п. Все эти предметы охраняли какие-то чуйки и по мере надобности передавали их аукционисту. Но вот в руках аукциониста появилась огромная бутыль. Он встряхнул ее и крикнул:
— Добросовестность театрального рецензента! Оценка рубль за спектакль.
— Пятак, — раздалось где-то.
— Гривна!
— Три рубля пятнадцать! — возгласил аукционист и щелкнул на счетах.
— Позвольте, позвольте посмотреть! — послышалось в толпе, и к столу подошли, как я узнал из их последующего разговора, два актера и одна полная и красивая актриса.
Они взяли бутыль в руки и начали трясти ее.
— Фу, какая жидкая! — сказал один из них. — Прошлый год перед бенефисом я густую-прегустую покупал и за ту платил три рубля и ужин, а эта совсем вода.
— Два-то с полтиной дать можно! — отозвался другой актер. — Накидывайте цену, мадам, коли вам требуется? — обратился он к актрисе.
— Ни за что на свете! Я не за тем сюда пришла! — воскликнула она. — Я за этот предмет никогда не плачу деньгами, а всегда натурой; что же касается до публики, то ее подкупаю гусарским мундиром, трико или вообще узким мужским платьем, в котором и выхожу на сцену во время моих бенефисов.
— Господа, не задерживайте! — произнес аукционист.
В публике раздались восклицания: „пятак“, „двугривенный“ — и, наконец, бутыль осталась за каким-то молодым еще актером.
— В будущем году „Гамлета“ буду ставить в свой бенефис, так пригодится, — решил он и, расплатившись, потащил ее к выходу.
— Сострадание ростовщика! — снова раздался возглас. — Оценка сто рублей!
На этот предмет торговались три каких-то солидных господина в орденах и толстый концессионер с часовой цепочкой, составленной из железнодорожных жетонов. Они друг перед другом начали страшно набивать цену.
— И что это они петушатся! На что, кажется, такая пустая вещь? — спросил я Флюгаркина.
— Как на что? — отвечал он. — По-теперешнему времени это самая редкостная вещь и каждый из этих тузов старается приобрести ее для своего кабинета редкостей.
— Так, так, — произнес я, но в это время банка с состраданием ростовщика осталась за концессионером, набившим на нее баснословную сумму, а к столу аукциониста подошел франтовато одетый молодой человек и сказал:
— Нет ли у вас бескорыстной любви девушки, так пустите в продажу не в черед, потому мне некогда долго дожидаться!
— Никак нет-с, а то бы с удовольствием!.. — отозвался аукционист. — Этот товар попадается очень редко и никогда не продается самими владельцами, а большею частью их опекунами и родственниками. Извините…
И снова возглас:
— Продается бедность безвестная, непокрытая и неповитая! Оценка грош!
На это предложение никто, однако, не откликнулся, и банка с бедностью снова поместилась на полке.
— И аукционист-то глуп, — прошептал Флюгаркин. — Ну, кому эта вещь нужна?
— Ах, не говорите этого! — вмешалась в разговор какая-то чуйка. — Иногда при случае и бедность требуется, только ее больше покупают гуртом, за вино или за плевые деньги. Бывает, правда, что иные продавцы и дорожатся, но при малом спросе всегда отдают за подходящую цену.
Между тем к Флюгаркину подошел длинный и худой, средних лет, мужчина с бакенбардами и в золотых очках и ломаным русским языком спросил:
— Скажите, пожалуйста, журнальная добросовестность еще не продавалась?
— Никак нет-с! — отвечал тот, — но будет продаваться. Сегодня этого товару скопилось достаточно.
— То-то… Мне много требуется. Я, видите ли, испрашиваю себе концессию на железную дорогу от Шелакского Носа до острова Калгуева, так нужно, чтобы журналы говорили в мою пользу.
К концессионеру подскочила какая-то личность в цилиндре.
— Не хотите ли купить по вольной цене? — предложила она ему. — Я бы с удовольствием продал мою собственную добросовестность и продал бы недорого. Мы тоже пишем и пишем много…
— Очень вам благодарен, но зачем же? Я вот приценюсь прежде на аукционе, — отозвался концессионер и отошел в сторону, бормоча: — Твоей-то мне и даром не надо; я ищу кого покрупнее!
А с амвона то и дело раздавались стук молотка, бряканье счетов и возгласы:
— Женская любовь! Совесть купеческая! Человеколюбие подрядческое! Самые чистые юношеские убеждения, сломленные бедностью, и т. п.
Товар этот шел за очень недорогую цену; его покупали вяло и, оттащив к стороне, перетряхивали и говорили:
— И черт меня дернул этот пятак накинуть! Куда я теперь денусь с этим хламом?!
— Ничего, при другом товаре как-нибудь сойдет! — ободряли себя менее опытные.
Я стоял как истукан и дивился на этот странный аукцион, но когда аукционист возгласил: „Материнская любовь! Оценка десять с полтиной!“ — я невольно вздрогнул и, взглянув на Флюгаркина, произнес:
— Боже мой, неужели и это-то продается?
Флюгаркин пожал плечами, наклонился к моему уху и во все горло гаркнул:
— Не дивись! Это дух времени! Знамение времени!
Крик его был громким, подобно гласу трубному, так что потряс даже стены залы. Я был буквально оглушен, чувствовал, что падаю в обморок, и вдруг проснулся.
У постели моей стояла Марья Дементьевна и держала в руках кофейник.
— Вставай! Десятый час! Кофей-то стоял, стоял да и простыл давно! — говорила она.
Я тотчас же рассказал ей мой сон.
— Пей на ночь больше всякой хмельной дряни, так тогда еще и не такая глупость приснится! — добавила она.
Я молчал и соображал насчет „савуар вивра“.
21 ноября
Мысль во что бы то ни стало сделаться сочинителем не дает мне покоя. Марья Дементьевна уверяет, что сегодня ночью я даже во сне кричал: „хочу быть сочинителем!“ и только тогда перестал, когда она меня толкнула под бок. Сегодня задумал писать кровавый роман в двадцати четырех частях, а может быть, и более, из всех бытов: крестьянского, чиновничьего, купеческого, мазурнического, аристократического, нищенского, военного, фабричного, биржевого и пр., и пр. Роман этот думаю назвать забористым названием: „Трущобы Невского проспекта, или Петербургские фальшивомонетчики“ и при объявлении об издании моей газеты „Сын Гостиного Двора“ обещать его моим годовым подписчикам в виде премии. Это ныне в моде и, наверное, поднимет подписку. Ежели же мой роман не будет кончен или даже вовсе не будет выдан подписчикам — тоже не беда. У нас публика смирная и простит, оставит втуне. Роман свой я напичкаю всякой уголовщиной и мне будут служить материалами романы наших современных беллетристов. Даже мало того, я постараюсь освоить себе их манеру писания и их мотивы, и каждая глава моего романа будет писана или а-ля Лесков-Стебницкий, или а-ля Крестовский, или а-ля Авдеев, или а-ля Боборыкин и т. д., и т. д. Смею надеяться, что таким образом роман мой будет самый „интересный“ и в „современном вкусе“, а этого только и надо публике.