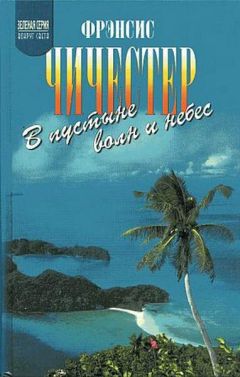Нина Берберова - Курсив мой (Главы 1-4)
Ощущение "со всех ног" было постоянным. Со всех ног - в созвездие Геркулеса, и со всех ног - Россия в революцию, и со всех ног - из гимназии домой, читать, думать, сочинять стихи, и со всех ног - вон и прочь от либестраумов к настоящим бурям, которые ждут. Чем больше расстилалось надо мной "крылышко", тем больше хотелось подальше от него, чем теплее и милее было все вокруг меня, тем сильнее рос протест во мне против руки, покровительственно положенной на плечо, против заботливого взгляда и вопроса: ты здорова? против правил и установлений, которые должны регулировать мою внешнюю жизнь. О, каким я была несносным существом! Каким жестоким, отчаянным, своевольным, жадным до жизни существом! За что меня любили? Я сама далеко не всегда любила себя.
Минуты восторга и переполнения души всегда бывали в одиночестве. Я не помню, чтобы они наступали в "пещере" из медвежьих шкур, где мы бывали вдвоем с Лялей, или в ложе театра, куда в самом раннем моем детстве еще ездили с гладильной доской, чтобы маленьких сажать вчетвером на два стула в ложе, подложив под них доску, или где-нибудь, где вокруг меня были люди, сверстники или старшие. Восторг и переполнение души всегда приходили, когда была тишина и полнота сознания (полнота сознания, само собой разумеется, была разной в десять, в пятнадцать, в двадцать лет). Одиночество для меня до сих пор - тишина души и полнота сознания, и я не знаю ничего, что было бы лучше них. Мне возразят, что я никогда не была действительно одинока и во всякий час моей жизни у меня были люди (или человек), которые могли разделить со мною некоторую часть моих мыслей и чувств. Это верно, но как подводное течение всегда было одиночество, и я не знаю ничего выше, важнее и серьезнее его.
А жизнь приоткрывала мне все больше и больше свою суть, сначала как бы картину, я потом ее значение, сначала как бы наспех, на бегу - пейзаж, а после и смысл его. Она учила меня читать книги и видеть за занимательной историей связь смыслов, за театральной пьесой - сеть вопросов и ответов, за разговором людей - ткань проблем. Ничто не повисало в воздухе без контакта с окружающим, все было соединено нитями с остальным, часть с целым, и, если призвать на помощь метафору, все было гораздо больше похоже на великую паутину звездного неба, перед которой я стояла, рассматривая ее часами, чем на фейерверк, который обыкновенно люди запаляют, а потом бегут от него.
Первое мое сближение с животными было первым жестоким разочарованием в православной религии (в которую я была крещена при рождении): я узнала, что о них она никогда не сказала ничего. Правда, были львы и тигры, которые дружили со святыми, но, во-первых, инициатива дружбы принадлежала зверям, а, во-вторых, вся теплота общения исходила от животных. Морда лошади, уши собаки, грудь и брюшко кота - пусть это перечисление и напоминает "Дианы грудь, ланиты Флоры" - остаются для меня одними из сладчайших впечатлений нашего мира. Я таю от гордого и печального взгляда верблюда, я чувствую глубокое родство с медведем и зеброй. Голодная собака, брошенный кот - для меня нет горше существ. Мне пришлось однажды в голодный год зарезать курицу - я люблю мясо, я люблю кровавый бифштекс, не понимаю вегетарианства и не вижу непоследовательности в этом: цель моя не в том, чтобы завязать концы, а в том, чтобы развязать узлы. Громадная, неописуемой красоты бельгийская овчарка песочного цвета, с обведенными чернью глазами, принесла мне в зубах полумертвого от страха большого цыпленка, рыжего в коричневых подпалинах. Было воскресенье, Франция, октябрь 1941 года, и Оля (погибшая впоследствии в Аушвице) говорила, что кормить приезжающих из Парижа четырех гостей совершенно нечем и что она уходит в лес искать грибы, чтобы испечь пирог с грибами. Фермерша, продавшая накануне все свое масло и кадушку солонины немецким солдатам (платившим радужными французскими деньгами, печатавшимися во Франкфурте в количестве неограниченном), отказалась продать мне что-либо, считая, что с немцами дело иметь вернее, чем с русскими, - немцы стояли тогда под Москвой. Я остановилась в саду, под посаженными нами два года тому назад грушами (которые, как я слышала, теперь, через двадцать лет, дают ежегодно большой урожай берре александр), смотрела с тоской вокруг себя и соображала, чем я буду кормить голодных парижских друзей, которые проедут на велосипедах 30 километров. В это время появился Рекс с курицей. Он принес мне ее с соседнего луга и положил к моим ногам. Я схватила ее за лапки, побежала за топором, раскачивая ее на бегу вниз головой, и на том пне, где мы пилили дрова для печурки, ударила курицу топором поперек шеи. Она трепыхнулась под моей рукой два раза, и все было кончено. Рекс стоял и смотрел, серьезно и внимательно. Он был горд собой, и он был прав. И хотя я в первый раз в жизни убила живое существо, я тоже была права. Он пошел на преступление ради меня. Я пошла на преступление ради Оли и друзей. Он любил меня, как я его, и с того дня как будто стал любить меня еще больше.
Но церковь ничего не сказала о зверях, она забыла о них. Вообще же от принесенного в мир нового было много крови - не соответственно этому новому (все главное, важное, высокое было уже сказано ранее). Зато мало что и изменилось за двадцать веков: социальной стороны жизни христианство не коснулось, и если человек изменился в наше время в сторону жалости-прощения-забвения-отказа от выпячивания денежного благополучия, в сторону общей нивелировки в доброте и считает ложь, месть, лесть, злость и зависть чем-то неприличествую-щим человеку, то это сделала демократия: покупательная способность, свобода печати, всеобщие выборы, отсутствие военных парадов и многое другое, что для одних, быть может, потеряло "аромат новизны" и получило "оттенок прагматизма", а для других не соответствует принципам диалектического материализма, но что мне было, есть и будет дорого и без "аромата", и не подпертое Энгельсом.
Жизнь приоткрывала мне свое трехмерное пространство, давая задумываться о четвертом измерении, помещая меня в этот, не имеющий края и конца, пейзаж. Она приоткрыла мне Европу, но не открыла ее. Мне было двенадцать лет, и я только успела схватить на лету то, что потом на много-много лет стало мне своим. От Берлина, который через восемь лет был узнан мной во всей его жесткой и серой сущности, от Парижа, ставшего позже "столицей моей судьбы", от Лондона (до сих пор чужого) остались клочья дней и ночей, гостиницы (первые в жизни), темпы уличной жизни (непохожие на русские), старость и роскошь Европы, которые делали ее особым каким-то антирусским миром. Но в этом путешествии были часы, которые как бы предваряли дальнейшее, и есть что-то странно-тождественное в моих одиноких прогулках по Женеве тогда, летом 1914 года, и в прогулках по Цюриху - более двадцати лет спустя вдоль одного и вдоль другого озера, но в той же неизменной Швейцарии, где покой заливает людей, где живется под лозунгом "а там хоть трава не расти"... Дни бегут, и вот уже поезд увозит нас в ночные Альпы, в туннели, где черно и гремят колеса, и свищет туннельный ветер навстречу поездам. В двадцатых годах, вернувшись в Париж и начиная новую полосу жизни, я искала и не нашла ту гостиницу, где мы тогда, в августе 1914 года, остановились (на обратном пути из Виши). На пути туда - все еще было, как полагалось ему быть: встретили нас в Гранд-отеле, где почему-то днем горело электричество в номерах, и мы больше ходили по магазинам - по плану матери музеи и соборы должны были быть осмотрены во горой приезд, после месяца жизни в Виши. Но второй приезд оказался скомкан войной, немцы подступали к Амьену, Бельгия была взята, Париж вдруг вымер, а мы приехали, извозчик повез нас по пустым улицам, в зловещей тишине ставшего мертвым города, от Этуали к Нотр-Дам, по набережным, мимо Дворца инвалидов. "Пользуйся, пользуйся, неизвестно, попадешь ли сюда еще в жизни, смотри, любуйся, это Париж..." Я попала сюда, я жила здесь. Я прожила здесь двадцать пять лет. Четверть века изгнания.
Гостиницы, где мы остановились на пути домой, я потом никогда так и не нашла. С деньгами было туго, о Гранд-отеле нельзя было и подумать. Мы жили тогда около церкви св. Роха, между улицей Риволи и рынком, жили всего три дня и слышали: "Tous a Berlin!" и "On les aura!", и все это было для меня ново. Потом был поезд и пересадка в окруженном немцами Амьене, эшелоны раненых, раскаты пушек и приезд в переполненный порт Булони, где мы сели на пароход и уплыли в Англию. Тогда они шли через Амьен. До того они шли через Седан. Потом они шли через Компьен. Девяностолетняя мать фермерши, отказавшейся продать мне курицу в 1941 году, говорила:
- Вот помню как сейчас, в 1870 году они пришли по этой вот дороге, что ведет к амбару Мотте, за вашим пчельником, а вишь ты, теперь они в обход пришли, мимо стогов наших и гречихи Балле. А все такие же молодцы, как были, один к одному - бравый народ.
Интонации не было. В девяносто лет уж какие там интонации! Она только показала клюкой на юг, на север, и единственный зуб ее шевелился во рту, как будто вот-вот готовый упасть. Но он еще держался года три.