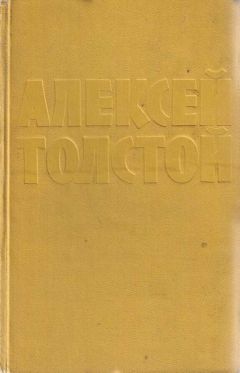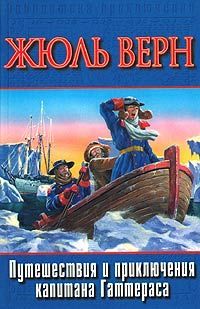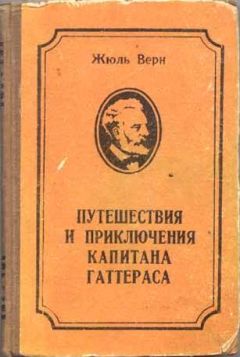Борис Зайцев - Золотой узор
— Главное в искусстве — дисциплина, — говорил он, поправляя пенснэ. — Я никогда не признавал так называемых безумных гениев, творящих по ночам, и в пьяном виде. Нет, тридцать лет уж я работаю в свои часы, и от других того же требую. Вы нынче опоздали на десять минут, и это отразится неблагоприятно на работе.
Мне казалось, что я снова в руках Ольги Андреевны, и это молодило, подбодряло.
Я старалась. Павел Петрович положил за правило, чтоб я являлась, когда луч вечерний падает на Марка Аврелия. У меня возник как бы point d’honneur, и отворяя дверь, я первым делом взглядывала, сияет ли конь императора.
Так мы готовились к выступлениям в Риме — в первую голову на garden party виллы Роспильози, вблизи Porta Ria, — его устраивала итальянская маркиза, проповедница русской музыки.
В свободные часы ко мне являлся мой Георгий Александрович, и мы отправлялись по святым местам — в станцы Рафаэля, на торжественные службы в катакомбы, или ехали по via Flaminia, любоваться Тибром и горой Соракто. Георгий Александрович был предупредителен и ласков, но какая-то легчайшая, прозрачная перегородка разделяла нас. Мне представлялось, что теперь он мой учитель, в высшем смысле. Я покорно пересматривала древние монеты, ездила к копиисту катакомбной живописи, работавшему в Риме много лет, читала толстые тома Вентури и Марукки. Иногда Георгий Александрович брал с собой сэра Генри. Тот ездил добросовестно, в книжечку записывал. Вероятно, также добросовестно он смотрит состязание яхт, держит пари на скачках и автомобильных гонках.
Он послушно вез нас на своем автомобиле в Остию, безбрежными равнинами Кампмньи, где ястреба реяли, вздымалась одиночка-башня, и вечерний свет заливал просторы благовонной влагой. Мы встречали таратайку подгороднего крестьянина; опасливо на нас косился он, подбирал возжи — но его уж нет, опять равнина, да вдали, сверкающей полосой, море Энея, да безмерный воздух в лицо плещет. Когда осматривали древний порт, раскопки Остии, казалось, что сэр Генри аккуратно все уложит в голове своей, как эти древние ссыпали сицилианскую пшеницу здесь в амбарах.
В музыке он понимал немногим больше, но вовремя являлся к Роспильози, тощей одной маркизе, во вдовстве занявшейся искусством и науками. У ней бывало смешанное общество: секретари посольств и адвокаты, журналисты, люди светские, какой-то перс, красивая и сильно располневшая писательница, два-три художника. Из русских, кроме композитора — Георгий Александрович, да Кухов, журналист со смутным прошлым — человек небритый, угреватый, с грязными ногтями.
Нам подали чай на открытом воздухе, среди магнолий, лавров, мелко-лиственных боскетов, и аллейка кипарисов прямо упиралась в водоем, в глубине сада, с мраморною маской: одно из бесчисленных водяных божеств Рима. Композитор смотрел через свое золотое пенснэ несколько сверху вниз, видавшей виды знаменитостью. Не без брезгливости ел второсортные печенья с первосортного хрусталя ваз. Кухов ершился. То ли тяготили плохо вычищенные ботинки, то ли раздражал барский облик — виллы, собравшихся.
— Удостаивает нас своим присутствем великий композитор, прямо осчастливлены, смотрите-ка, как ложечкой помешивает. Нет, мол, уж будь доволен, что на меня смотришь. Я еще ноты на рояле взять не успел, а ты аплодируй, иначе у меня нервное расстройство, к завтрему я заболею несварением желудка, не смогу в девять сесть за работу, не напишу десяти строк партитуры, а Россию это обездолит.
— Экий вы и злой какой…
— Не злой, а этих генералов всех… Да и маркиза хороша… Вобла сушеная. Вы думаете, от таких собраний процветает русская музыка? Ошибаетесь, все только для того, чтоб завтра было сказано в газетах: у Маркизы Роспильози, на очаровательной вилле состоялось garden party, тоже блестящее, разумеется. Известный русский композитор…
— Да и вы напишете?
— Ах, ну я, ну что там… Люди маленькие. О вас, о вас, конечно, напишу, ну, непременно…
Когда хозяйка пригласила нас в салон, все поднялись. Павел Петрович вынул шелковый платочек из кармана на груди, обмахнул лоб, сел за рояль, серьезно, почти строго на меня взглянул — мы начали.
Вновь, как и некогда в Москве, я чувствовала, никого нет, я одна со звуками своими, да этотъ маленький и крепкий человек, тридцатью годами славы и муштровки, дисциплины.
И мы не провалились, правда. Слушали нас хорошо, хорошо одобряли — с каждой новой пьесой ощущала я, что за спиною композитора мне, как за каменной стеной.
Кухов тоже мне похлопал.
— Ну, уж теперь цари. Прямо живьем возьмут на небо.
Маркиза нас расхваливала, благодарила. На ее рыбьем лице выступили пятна красноватые. Меня она звала даже к себе во Фраскати — отдохнуть от жаров Рима.
Когда мы выходили, сэр Генри поцеловал мне руку.
— Это успех, конечно. Очень рад за вас.
И, поклонившись, сел в автомобиль свой, покатил обедать, и в театр — до него столько же ему было дела, как и до моего пения.
Через несколько дней в римской газетке появилось описание garten party c нашим участием — производство Кухова. Все было превознесено, конечно в стиле, рабском и рекламном.
— Вот он, моветон-то где — Георгий Александрович слегка хлопнул пальце по газете. — Этими словами лил грубо льстят, или клевещут.
— Вам бы хотелось, чтобы все такими барами были, как вы сами, или та маркиза, или Цицерон.
— Нет, это невозможно. И Горацию, конечно, приходилось, proportions gardees, петь Мецената, чтобы получить виллу за Тиволи. Жизнь все такая же, как тысячи лет назад. И сели мы, сидя в тени башен
Trinita, любуемся великим Римом, философствуем о малом и великом, о консерватизме и революционности, о моветоне, то поверьте, что во времена Лукулла, великого завоевателя и насадителя вишен в Риме, вот на этом самом месте, несомненно, тоже разговаривали, и, быть может, — много интересней, чем мы с вами.
Не энаю, как мне отнестись к Горацию, и прав он, или же неправ, мне безразлично. Сама я пред маркизой не заискивала и была удивлена, когда она заехала, и вновь, настойчиво, позвала во Фраскати. Мне даже что-то в ней понравилось: плоское, длинное лицо — трогательное в некрасоте своей, преданность высоким интересам, простота и благочестие. Быть может неудачливость личной жизни — траурное было в ней, истинно-вдовье. Она напомнила мне Витторию Колонну. Я приняла предложение.
И вот передо мною глухая, очень темная аллея мелколиственных дубов, где солнце протекало золотыми пятнами по спинам пары худощавых лошадей, везших коляску нашу. Цветник, газоны у фасада, спокойный двухэтажный дом со спущенными жалюзи, урнами и решеточкой по карнизу крыши — залиты светом белого июля. Старичок садовник снял почтительно перед нами с головы каскетку. Лысый лакей в позументах высадил маркизу. Мы вошли в прохладный, благородный и благоуханный полумрак. Мне отвели две комнаты с балконом, и сейчас же подняла я жалюзи, хотелось света и простора: жадные мои глаза его и получили. Серебряною вертикальной струйкой прорезал фонтан весь нежно-голубой, горизонтальный пейзаж Кампаньи, на краю которой, как на краю вечности, миражем мрел, слегка переливаясь в легких струях, Рим. И лишь Сан-Пиетро воздымался неизменно — средоточием вселенной.
Над окнами взметнулись ласточки: там были гнезда. Зачертили в синем небе милыми зигзагами — образы света и свободы. Мне все понравилось здесь. Петь могла я , не стесняясь, щебет ласточек. Благоухание цветов, плеск голубого воздуха и золотой блеск солнца опьяняли, веселили. Скорей, чем где-либо, я чувствовала тут себя сестрою ласточкам, и немного, кажется, мне стоило бы улететь с ними.
Маркиза прожила со мною две недели. А затем уехала на Искию, я же осталась.
Как будто было странно, почему же я живу на вилле мне малознакомой дамы, хозяйкой прохожу по ряду комнат с тишиной, зеленоватым полумраком малообитаемого места, одна обедаю в столовой, перед окнами которой цветники раскинули свои узоры — тают в свете ослепительном и легко-белом. Но потом я попривыкла. Ну, хочет так маркиза — ее воля. Я не стану притворяться. Мне удобно здесь, мне нравится, значит — и хорошо.
И эти дни я со спокойным сердцем растворяла окна комнаты — навстречу солнцу. Особенно запомнилось такое утро.
Уже в постели услыхала визг, стрекотню ласточек над своим окном. Дело оказалось просто, и печально. Вылетая из гнезда — теперь служившего просто ночлегом — ласточка зацепилась лапкой за тесемку; и на ней повисла. Ей сдаваться не хотелось. Судорожно вверх взметывала, кидалась в стороны — и падала. Стайка подруг вилась над нею, стрекоча, но не могла помочь.
С подоконника мне не достать ее. Я пробовала зонтиком, длинной метелкой, ничего не вышло. Ах, как противно! Что же делать, я пила в столовой кофе, и из головы не выходила ласточка, томящаяся на своей ножке. Я сказала подававшему мне старику Чезаре. Вместе вышли, подошла кухарка и садовник, тоже все поохали — но так высоко она бьется, ничего не поделаешь. Я в огорченьи совсем ушла из дому. Но сегодня ни аллеи кипарисов, ни магнолии, ни дубы на площадке, где я смотрела не Рим, меня не радовали. Не читалась книжка, с собой взятая. Я вернулась к завтраку — ласточка висела неподвижно. Неужели-ж над моим окном так и повиснет жалкий трупик?