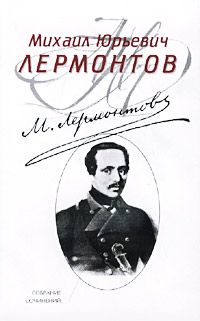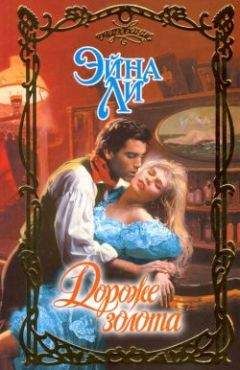Надежда Тэффи - Том 1. Юмористические рассказы
— Finissez![5] Никаких бонн и гувернанток! Никаких. Нашим детям нужна русская нянька! Простая русская нянька — вдохновительница поэтов. Вот о чем прежде всего должны озаботиться русские матери.
— Pardon! — вставила моя соседка. — Вы что-то сказали о поэтах… Я не совсем поняла.
— Я сказала, что русская литература многим обязана няньке. Да! Простой русской няньке! Лучший наш поэт, Пушкин, по его же собственному признанию, был вдохновлен нянькой на свои лучшие произведения. Вспомните, как отзывался о ней Пушкин:
«Голубка дряхлая моя… голубка дряхлая моя… сокровища мои на дне твоем таятся…»
— Pardon, — вмешался молодой человек, приподняв голову над сухарницей, — это, как будто, к чернильнице…
— Что за вздор! Разве чернильница может нянчить. А все эти дивные произведения! «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», — ведь всему этому научила его нянька!
— Неужели и «Евгений Онегин»? — усомнилась моя соседка.
— Удивительно! — мечтательно сказал хозяин дома, — такая дивная музыка… И все это нянька!
— Finissez! Только теперь я и чувствую себя спокойно, когда взяла к детям милую старушку. Она каждый вечер рассказывает детям свои очаровательные сказочки.
— Да, но, с другой стороны, излишняя фантазия тоже вредна! — заметила моя соседка. — Я знала одного дантиста… Так он ужасно много о себе воображал… То есть я не то хотела сказать…
Она слегка покраснела и замолчала.
— А сколько возни было с этими боннами! Была сначала швейцарка. Боже мой, как она нас замучила! Иван Андреич до сих пор без содрогания о ней вспомнить не может. Представьте себе, чем она нас донимала? Аккуратностью. Каждое утро все оконные стекла зубной щеткой чистила. Порядки завела прямо необыкновенные. Заставила в три часа обедать, а ужинать совсем запретила. Иван Андреич стал в клуб ездить, а я, потихоньку, к Филиппову бегала пирожки есть. Теперь положительно сама не понимаю, как она такую власть над нами забрала. Прямо пикнуть не смели!
— Говорят, есть такие флюиды… — вставил хозяин, сделав умное лицо.
— Finissez! Наконец избавились от нее. Взяла немку. Все шло недурно, хотя она сильно была похожа на лошадь. Отпустишь ее с детьми гулять, а издали кажется, будто дети на извозчике едут. Не знаю, может быть, другим и не казалось, но мне, по крайней мере, казалось. Каждый может иметь свое мнение. Тем более, я — мать.
Мы не спорили, и она продолжала:
— Прихожу я раз в детскую, вижу — Надя и Леся укачивают кукол и какую-то немецкую песенку напевают. Я сначала даже обрадовалась успеху в немецком языке. Потом, как прислушалась, — Господи, что такое! Ушам своим не верю. «Wilhelm schlief bei seiner neuen Liebe!»[6] — выводят своими тоненькими голосками. Я прямо чуть с ума не сошла.
В комнату вошла горничная и что-то доложила хозяйке дома.
— А-а! Вот и отлично! Теперь шесть часов, и няня сейчас начнет рассказывать детям сказку. Если хотите, господа, полюбоваться на эту картинку в жанре… в жанре… как его? Их еще два брата…
— Карл и Франц Мор, — подсказал молодой человек.
— Да, — согласилась было хозяйка, но тотчас спохватилась — Ах нет, на «Д».
— Решке, что ли? — помог муж.
— Finissez! В жанре… в жанре Маковского.
— Так вот — картинка в жанре Маковского. Я всегда обставляю это так фантастично. Зажигаем лампадку, няня садится на ковер, дети вокруг. C'est poetique[7]. Так что же, — пойдемте?
Мы согласились, и хозяйка повела нас в кабинет мужа и, тихонько приоткрыв дверь в соседнюю комнату, знаком пригласила нас к молчанию и вниманию.
В детской действительно было полутемно. Горела только зеленая лампадка. И тихо. Скрипучий старушечий голос прорывался сквозь шамкающие губы и тягуче рассказывал:
— «В некотором царстве, да не в нашем государстве, жил-был старик со старухой, старые-престарые, и детей у них не было.
Вот погоревал старик, погоревал, да и пошел в лес дрова рубить.
Рубит, рубит, вдруг, откуда ни возьмись, выкатилась из лесу кобылья голова.
— Здравствуй, — говорит, — папаша! Испугался мужик, однако делать нечего.
— Какой, — говорит, — я тебе, кобылья голова, папаша!
— А такой, что веди меня к себе в избу жить. Потужил мужик, потужил, однако видит, делать нечего. Повел он кобылью голову к себе домой.
Подкатилась кобылья голова под лавку, три года жила, пила, ела, мужика папашей звала.
Как на третий год выкатилась кобылья голова из-под лавки и говорит мужику:
— Папаша, а папаша, я жениться хочу! Испугался мужик, однако делать нечего.
— На ком же ты, — спрашивает, — кобылья голова, жениться хочешь?
— А так что, — говорит, — иди ты во дворец и сватай за меня царскую дочку.
Потужил мужик, потужил, однако делать нечего. Пошел во дворец.
А во дворце царская дочка жила. Красавица-раскрасавица. Носик у ей востренький, а глаза маленькие, что серпом прорезаны.
И живет она богато-богатеюще.
Все-то у нее есть, что только ее душеньке угодно. Пьет она вино шампанское, ест она масло параванское, пряником непечатным закусывает. А платье на ней с тремя оборками и Манчестером отделано.
А во дворце-то палаты огромные, ни пером описать. Сам царь от стула до стула на тройке ездит.
А и слуг во дворце видимо-невидимо. В каждом углу по пятьсот человек ночует.
Стал старик царскую дочку за кобылью голову сватать.
Потужил царь, потужил, однако видит, делать нечего. Отдал дочку за кобылью голову.
Стали свадьбу играть, пошел пир горой. Поставил царь и соленого, и моченого, и жареного, и вареного, а старику подарил со своего царского плеча лапотки новехонькие да кафтан золоченый на бумазее стеганый, и палаты каменны, и пирога кромку.
Пошел старик к своей старухе. Стали они жить-поживать да детей наживать. По усам текло, а в рот не попало!»
— C'est fantastique[8]! — хрюкнул молодой человек, зажав рот рукой.
— Тсс! Revenons[9] в гостиную!
Страшный ужас
Кто не знает страшных рождественских метелей, когда завывание ветра смешивается со свистом бури, когда облака как будто хотят сесть на землю, когда все богатое торжествует на елках, а бедняки замерзают у дверей своих обеспеченных соседей, причиняя этим им неприятность!..
Самый яркий вымысел рождественского фельетониста, сдобренного хорошим авансом, бледнеет перед действительностью.
Николай Коньков! Маленький ребенок — Коля Коньков, замерзший и занесенный снегом в лютую рождественскую ночь!
О нем хочу я вам рассказать.
Николай Коньков был ребенком (кто из нас не был ребенком?).
Он был, собственно говоря, даже более чем ребенок, так как ему было уже тридцать пять лет, когда он приехал в Петербург в одну из вышеописанных ужасных рождественских ночей.
Правда — ни мороза, ни метели в эту ночь не было, так как дело происходило в середине июля месяца.
Да и ночи, собственно говоря, тоже никакой не было: поезд пришел ровно в 10 утра.
Но что же из этого?
Приехал он из своего имения освежиться. В городе есть особая свежесть, которой в деревне ни за какие деньги не достанешь.
Коньков ездил обыкновенно за свежестью в Москву, в Петербурге же был новичком и потому с девственной беспечностью доверился извозчику.
Тот привез его в меблированные комнаты на Пушкинской. Коньков сунул швейцару свой чемодан и побежал искать парикмахерскую.
Он был франт.
Вышел из парикмахерской и шел домой, насвистывая, ровно ничего не подозревая.
А домой-то он и не попал!
В Петербурге каждому ребенку известно, что вся Пушкинская сплошь состоит из меблированных комнат, до такой степени друг на друга похожих, что самый опытный глаз легко может их перепутать. А неопытный и того пуще.
У Конькова глаз был неопытный и завел его не в те номера. Коридорный выяснил ошибку и вывел его на улицу.
Коньков осмотрелся и пошел в дом, что напротив.
— Вам кого? — спросил швейцар.
— Господин Коньков не здесь ли остановился?
— Нет-с. У нас таких нет. Коньков завернул в соседний подъезд.
— Не здесь ли господин Коньков?
— А какие они из себя будут?
— Да такой… симпатичный, — с чувством ответил Коньков. — Симпатичный, среднего роста. Вроде меня.
— Нет, такого не видали!
— Гм… а ведь он у вас паспорт оставил… Коньков упал духом.
«И так еще хорошо, дом запомнил!.. Подъезд, а слева ворота, а у ворот мальчик стоит».
Он сунулся еще в один подъезд, но швейцар сказал ему сухо:
— Как вы туточа уже два раза были, так я един дух дворников крикну. А в участке живо разберут, кто кому Коньков.
Есть натуры, которые не теряются в минуты самой грозной опасности.