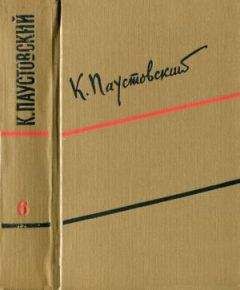Леонид Андреев - Том 6. Проза 1916-1919, пьесы, статьи
Отсюда понятно и то, каким образом получается это чудесное одушевление вещей, как у Чехова: каждая вещь должна доказать свою необходимость, и раз это сделано, она становится одушевленной, необходимой частью общей души героев. И если автор сам не видел вещей, когда писал, не ввел их в круг психологический, не сделал частью общей души — они не должны существовать и для актера; этого не понял Художественный театр, когда так старательно и так бесплодно одушевлял ненужные вещи в «Ревизоре», или в «Горе от ума», или в шекспировских постановках. В этом отношении самый сильный театр не может видеть дальше автора, и дальнозоркость театра легко может стать его близорукостью.
Так трудно стезею психологических доказательств и необходимой мотивировки идет театр к созданию своих ценностей. И этим же путем должен идти и новый драматург, если хочет он новой серьезной драмы. Надо писать на переживаниях, сказал бы я, пользуясь терминологией Художественного театра.
Нужно ли оговариваться, что бездействие я отнюдь не делаю обязательным для новой драмы? Наша задача — освободить сцену от старых лживых «законов» ее, специальных, как специальна до сих пор театральная цензура, столь отличная от общей, и подчинить ее законам общелитературным. И если драматургу-писателю понадобится зрелище и действие, то пусть оно и будет — не надо только выдумывать действие там, где его нет и быть не может, не надо только рабски подчиняться изжившим себя условностям сцены.
XIОднажды я был в Москве на маскараде, устроенном художниками. Это было давно, лет шесть или семь назад, и были еще многие, кого сейчас нет на свете: В. А. Серов, Илья Сац[19]. Серов был наряжен, как «Некто в сером» из «Жизни Человека», и стоял в углу со свечкой, а то подходил к кому-нибудь и из-за спины шептал серьезно:
— Вот вы сидите тут и не знаете, что пришли уже воры в квартиру вашу и снимают платье с вешалки.
Но в общем было очень скучно, почти до слез — как бывает на всех маскарадах наших и веселых праздниках. И вот Сац, также позеленевший от скуки, испуганным шепотом предложил мне и некоторым артистам Художественного театра — удрать.
— Поедемте ко мне, — шептал он, — тут недалеко, что-нибудь сделаем, повеселимся! Я не могу!
Поехали. Но сразу оказалось что-то совсем странное: пустая, огромная и ужасно холодная, по-видимому, в тот день нетопленная комната и полное отсутствие чего-нибудь веселящего; не только не оказалось вина, на которое многие рассчитывали, не видя иной возможности вывести себя из трезвой и мертвой тоски, но не нашлось даже и горячего чаю, погреться — поздно! Сац был смущен, бормотал что-то, засматривал в углы и вдруг нашелся: достал откуда-то маленьких восковых свечей от елки и с нашей помощью налепил их всюду — на подоконники и столы, на рояль. Стало совсем странно — и как будто весело. И вот тут, дальше началось то особенное и милое, о чем до сих пор я вспоминаю с радостью: мы все начали играть. Было нас немного: Книппер, Москвин, Качалов, Званцев, Леонидов, Сац и я, и все мы играли: сами для себя, публики не было. Дан был только общий план: изобразить нечто в высокой степени испанское; и Сац импровизировал музыку, Званцев тут же сочинял соответствующий стихотворный текст, и остальные входили всякий со своим. Было нелепо, смешно, как «Вампука» (тогда еще не существовавшая), и необыкновенно талантливо: я и так очень высоко ценил упомянутых артистов, а тут они поразили меня силой, яркостью и свежестью таланта, искристой его игрой. Сперва сам я не хотел играть: неловко было, совсем не умею, но увлекся незаметно и тоже что-то заиграл, от чего сам же и смеялся. И все смеялись, сами от себя и друг от друга, прерывалась музыка от смеха, и все играли: пели, нагромождали события, сами себя режиссировали, на лету улавливали связь и подхватывали диалог; некоторые с маскарада приехали костюмированными. И не было публики — одни играющие.
И вот теперь, много лет спустя, когда я пишу о театре психологии и так решительно открещиваюсь от театра игры, мне невольно вспоминается этот чудесный вечер чудесной игры — да, игра необходима! Нужна всем: и собакам, и детям, и профессорам! И сколько еще вспоминается случаев, странных вечеров, дней особого настроения, когда вдруг нестерпимо захочется играть: хотя бы вдвоем, хотя бы одному, как котенку. Сделать другое лицо, надеть маскарадные одежды, испанский плащ, золотую картонную корону, что-то вообразить, говорить стихами и петь — играть во что бы то ни стало.
И вспоминаются мне те плачущие дети, которым или родители запретили, или товарищи бойкотируют: не приняты они в игру и со стороны смотрят завистливо и со слезами! И думается мне: когда мы идем в театр «игры» и смотрим из своего горького партера на играющих актеров — не есть ли мы те самые непринятые дети, отверженные волею родителей от общего веселья, нелепые и ненужные свидетели чужой радости… публика! Надо самим играть, а не смотреть только — в этом смысл игры и осуждение того театра, который сам для себя за наши деньги великолепно играет, а нас засадил в партер для зависти и бессильного, стороннего, холодного смеха.
Театр игры немыслим без участия в игре зрителя — он становится насмешкой и оскорблением. И отсюда все эти теоретические и практические попытки приблизить зрителя к сцене, включить его в хор: отсюда цирк Рейнгардта, в котором зрители должны якобы смешаться с актерами, между зрителей ходящими; отсюда все эти новые кабаре, в которых неостроумно шутят над зрителем, пытаясь вовлечь его в игру, отсюда все эти «гениальные» трюки режиссеров, вдруг выкидывающих подмостки до середины зала, так что крайние зрители совсем как будто становятся актерами.
А бесчисленные потешные суды над героинями «сенсационных» драм? Конечно, здесь есть и момент общественный, но еще больше сказывается в этих судах потребность участвовать самим в представлении, не быть только сторонними зрителями, театральным мясом, а и самим играть. И как многознаменательно, что в этих судах автор и его пьеса являются только предлогом для сочинения какой-то собственной драмы, сырым материалом для нового коллективного творчества, соборной игры.
И в будущем театре не будет зрителей: это первое и основное требование нового театра, столь же необходимое, как и в социальной жизни уничтожение обедающих и только смотрящих на обед — все за стол! Произойдет же упразднение «зрителя» двояким, как мне кажется, путем, и путем неизбежным и логичным.
Зрители в театре игры исчезнут потому, что самый театр игры постепенно уничтожится, распылится, уйдет в самое жизнь, станет не особым зданием с городовыми у подъезда, а войдет в общую частную обывательскую жизнь, как один из радостных элементов ее. Играть будут сами для себя, без публики и без актеров — сами. Все эти ритмические гимнастики и танцы, потешные суды, смешные футуристы с накрашенными лицами и маскарадным костюмом на Тверской, все это и многое другое, о чем благоволит вспомнить сам читатель, — говорит об одном: жизнь ограблена, у нее отняли игру, сняли, как сливки в кувшин, оставив людям только снятое жидкое молоко; жизнь требует, чтобы игра вернулась в отчий дом жизни, как блудный сын из своих невольных скитаний. Как это осуществится фактически, я, конечно, не знаю, да и не особенно задумываюсь: жизнь так развивается и растет, что всякие чудеса становятся мыслимы. И разве это такое уже чудо: стать самим немножко творцами и художниками, сочинителями и музыкантами — не только смотреть и слушать, а и самим нечто на собственную радость создавать! Ведь не в том беда, что талантливых людей мало, а в том, что землицы мало и гниют в сырых складах жизнеспособные семена. Кто до аэроплана знал, что в жизни есть столько необыкновенно смелых и решительных людей, столь совершенных физически и духовно! Жаловались на вырождение — и вдруг! И разве это уже не чудо: вчера он мужиком трясся на грядке телеги, сонный, студенистый, совсем безнадежно раззявый, а сегодня — он ведет автомобиль, эту бешеную машину, требующую такого внимания сверхчеловеческого, и зоркости, и быстрейшей сметки.
Конечно, всегда будут люди, неспособные к игре, и всегда будут люди, особенно к игре способные и любящие ее — и первые будут смотреть, если и захочется, вторые же будут играть с особенным искусством. Но это не будет уже театром с его непременным разделением на актера и зрителя: ведь не театр же и теперь, когда старики смотрят на играющих детей, смеются и вздыхают! Развитие же социальной жизни обещает и новую почву для этой нетеатральной игры: будут процессии, в которых играть будут массы; быть может, возродятся и мистерии на некоторых новых началах, но с их непременным условием участия всеобщего в игре. С этой стороны будущее обещает так много нового, что было бы тщетным трудом искать ответа в старом, отошедшем. Напр<имер>, мы еще совсем не знаем социальной драмы: она была невозможна в условиях старой жизни и старой сцены: мы еще не знаем пиес, в которых героем был бы народ, масса, а не личность на фоне двух десятков статистов. Выступление на арену истории масс — чем будет отмечен в веках грядущих век настоящий — выведет театр игры из его тесного закоулка на свободную ширину улиц и площадей; и кто знает? — не будут ли писаться сценарии (не знаю, как назвать) для таких представлений, в которых участниками явится весь многомиллионный город… Что можем об этом знать мы, подчиненные закону о «скопищах» и не могущие собраться вчетвером, чтобы не быть немедленно кем-то разогнанными?