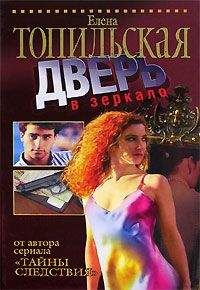Владимир Короленко - Том 9. Публицистика
Таким необыкновенно искусным и остроумным путем получено второе свидетельское показание против Григория Чикалова. Теперь, значит, против него уже — ножницы, извет Кожина и показание Абрама. Позвали самого Григория. Его ввели прямо в среднюю избу и поставили перед всей компанией, у стола с самоваром и закусками.
— Ну, Григорий, говори: ты куда ходил в ту ночь, когда у них вот кража случилась?
— Да я никуда не ходил.
— А, ты отказываешься?
Хвать Григория по лицу кулаком, и опять принялись бить втроем. Били уже не так, как Абрама, который как-никак Шестеринину родня. Григорий «не сознавался».
— Ну, веди его в заднюю комнату!
То, что должно было происходить в задней комнате, очевидно, уже входило в область профессиональной тайны и совершалось «при закрытых дверях». Григория ввели туда, и тотчас Шестеринин-родитель и его взрослый сын навалились снаружи на двери. Оттуда послышались нечеловеческие крики. Через некоторое время дверь открылась. Вышел Григорий, шатаясь, весь избитый. Рубашка на нем была вся иссечена нагайками. Его заставили умыться. Увидя в первой избе подводчика Григория Варламова Хохлова, Григорий подошел к нему и сказал:
— Тезка, сходи к жене, принеси другую рубаху. Вишь, эту «всю иссекли».
Тот пошел.
Жена рубаху принесла, просится в избу, плачет. Ее не пустили, а Григория опять повели в заднюю комнату, откуда опять понеслись удары и крики. Так его три раза выволакивали в беспамятстве, обливали водой и принимались опять. Били, душили за глотку, рвали губы (мужики говорят: «делали исчезание» до трех раз). За третьим разом Григорий повинился: — Уходил, — говорит, — ночью воровать.
Тогда его вывели, умыли опять, посадили на лавку, — урядник поднес ему две чашки водки.
— Вот видишь, сразу бы так. Ну, теперь говори: кто с тобой был. еще, кому отдали добро на хранение?
Григорий от водки немного ободрился и говорит: — Господа, сделайте божескую милость: как же я на людей буду говорить, когда и сам я не бывал и ничего не знаю.
Тогда его повели в заднюю комнату в четвертый раз. Когда его оттуда опять выволокли и умыли, он признался окончательно и назвал еще двух: Павла Трашенкова и Еткаренкова Василия.
IIIРассказ этих двух молодых людей (и некоторых сторонних свидетелей) прибавляет новые черты к картине. Урядник и стражники устали. За столом они сидели уже потные, взопревшие, в одних рубахах. Угощались. Когда выволакивали избитого, то кричали: «Проходную, хозяин!» и им приносили водки. Павла урядник ударил сразу, не говоря еще ни слова, и свалил с ног, а затем, когда тот поднялся, размахнулся вторично. Павел отшатнулся. Движения урядника уже потеряли отчетливость, и он сшиб руку об стену. Это его обозлило. Он приказал: «Скрой глаза, опусти руки!» Это, очевидно, — во избежание «сопротивления при исполнении обязанностей». Увели опять в третью комнату. Здесь били сначала нагайками, но черенки у всех трех нагаек изломались. Тогда стали бить кулаками, ногами и каким-то железным прутком. Урядник приставлял к груди револьвер. Павел три раза терял сознание; три раза его выволакивали и обмывали. И это видели все присутствовавшие у Шестерининых. Под окнами собирался народ. Стражники отгоняли. Павел все-таки не повинился. Вышел он из этой переделки без образа человеческого, весь в крови и с выбитыми зубами.
Принялись за Василия Еткаренкова.
Василий — старше двух предыдущих. У него уже четверо детей. Это — блондин с широким, умным лицом; выражение — подавленное, печальное. Во время рассказа порой смолкает, опускает голову, чтобы подавить подступающие к горлу рыдания.
Когда его привел десятник к Шестерининым, усталые стражники лежали на кровати, отдыхали от работы. Урядник его спросил, потом ударил. Но стражники, преодолев усталость, поднялись с кровати и говорят:
— Нечего с нём болтаться. Веди прямо в заднюю комнату.
Здесь сразу его повалили, раздели и начали сечь нагайками.
Потом опять сказали: «Нечего его обрывками сечь. Давай так», И стали бить «так». Пинали кулаками, сапогами; урядник вскочил на него и топнул. Тогда стражник Борисов говорит:
— Эх, ты не умеешь.
Сам вскочил на лежачего и топнул два раза. Урядник — сердитый, да легкий. Стражник — тяжелый, грузный.
Василий потерял сознание.
Его тоже выволакивали три раза, обливали водой и принимались опять. В четвертый раз урядник бил один. Сначала ударил железным прутком по голове, потом приставлял к груди револьвер. Наконец выхватил шашку, размахнулся. Помещение, по-видимому, тесновато; урядник саблей расшиб икону, после чего вбежал один из стражников и отнял шашку.
Урядник после этого вышел, дыша, «как запаленная лошадь», и тоже лег на кровать, подложив под спину подушки. И здесь произошло заключительное «служебное действие». Гай Владимирович Иванов чувствовал, по-видимому, некоторую неудовлетворенность: повинился один Григорий, да и то неполно. Остальные выдержали истязание (местные жители говорят: «исчезание»), а между тем начальство уже выбилось из сил. Гай Владимирович лежал на постели «и тяжело дыхал, — уморился». Но сердце у него все горело на упорщиков. Поэтому он приказал подвести Павла и Василия к своей постели. Когда их подводили, он, полулежа на подушках, пинал их ногой. «Шибанет ногой под грудь, потом кричит: „Подходи, подходи опять! Ведите их!“ Стражники подводят, а он поднимет ногу, опять нацеливается, куда ударить, чтобы побольнее».
IVНочью, под утро, истерзанных, истоптанных, избитых повезли в Чубаровку. Кто попадался навстречу этому ночному поезду, те со страхом сворачивали с дороги и крестились, оглядываясь на эти сани, в которых виднелась темная груда людей, высились полицейские папахи и неслись стоны.
«Пришлось подыматься на гору, — рассказывая мне подводчик Григорий Варламов Хохлов. — Я говорю: „Пожалуйста, ребята, сойдите маленько: не встащит ведь Лошаденка моя. Устала“. Стражники тотчас сошли, а ребята говорят: „Извини, дядя Григорий, — не сойти нам. Избиты очень“. А Василий Еткаренков говорит: „Вот теперь уже, товарищ, я чую: не жилец я. До лета не дотяну. Бить-то били, да еще ногами встанут, да прыжком. Нутренности отбили вовсе“. И заплакал».
В Чубаровке истязатели подвели итоги. Они оказались неутешительны. Ведь надо будет доставить «обвиняемых» к следователю. Кроме откровений клубка и ножниц, да оговора пьяного Кожина, у них было только вымученное сознание Григория Чикалова. Вдобавок в числе арестованных и избитых у них был Абрам Коноплянкин, — только свидетель! Пришлось несколько оформить это дело. Принялись опять за Григория, и, конечно, он скоро показал, что Абрам воровал с ним вместе. Таким образом, уже в Чубаровке этот свидетель для «законности» стал тоже вором. Затем у Григория стали требовать, чтобы он указал, куда девалось шестерининское добро. Этого, конечно, Григорий не мог сказать даже и под кулаками, так как не обладал даром ясновидения. Чтобы иметь хотя временный отдых от истязаний, он начал путать: показал сначала, что «добро» скрыл Андрей Архипов Чикалов (зять избитого уже Павла). Андрея арестовали и привезли в Чубаровку, но оговор оказался явно невероятным, и Григорий от него отказался. Его, конечно, стали опять бить. Тогда он повел всех в овраг, заставлял в разных местах рыть землю, но, конечно, ничего не находилось. Чтобы отучить его от такой лживости, ему стали рвать рот: «Засунет в рот два пальца и рвет на стороны». Григорий показал, что «добро» — в деревне Дубровке, у Лаврентия Хохлова. Отправились в Дубровку, к Лаврентию. «Давай сюда ворованное добро». Так как Лаврентий отказался, то его тоже принялись бить. Но тут…
В первый еще раз во всей этой истории нашелся, наконец, человек с некоторым гражданским сознанием, который решился стать против официально-полицейского разбоя. Дубровский староста надел свою цепь и решительно заявил, что он не дозволит бить своих односельцев.
— Подводу дадим. Можете арестовать. А бить не позволяю.
Истязатели отступили перед этим заявлением и увезли всех в Трескино, где живет пристав.
Зовут этого старосту Степан Николаев Кузнецов.
VМой невеселый рассказ и без того затянулся. Поэтому я опускаю некоторые черты, которыми, с своей стороны, сочли нужным дополнить «картину дознания» трескинский урядник и сам г. пристав (обратившие почему-то особенное внимание на Абрама Коноплянкина)… Достаточно сказать, что г. пристав нашел, по-видимому, «все в порядке» и что теперь уже можно препроводить «преступников» для формального следствия. Так, как были, избитых и изувеченных, их доставили сначала к уездному члену, а затем к судебному следователю в г. Сердобск.
Я, конечно, не знаю, насколько часто г. судебному следователю приходилось получать от приставов для дальнейшего производства полицейские дознания, подготовленные так образцово. Во всяком случае, относительно этих четырех человек было единственное, правда, очень выразительное, доказательство их вины: все они были жестоко избиты. Григорий Чикалов тотчас же отказался от всех вымученных оговоров. Это, конечно, опять огорчило урядника.