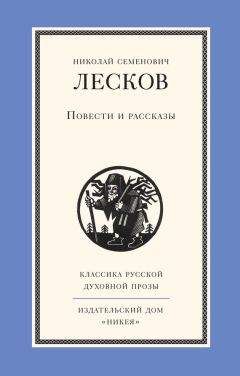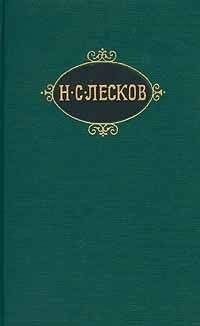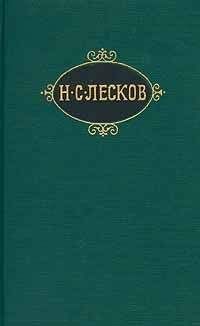Николай Лесков - Повести. Рассказы
— Говорят, будто она… будет матерью.
— Чего там: «говорят»! Это факт! Конечно, она будет матерью… Но как это случилось?.. Ведь граф так стар и так глуп, что он женился только назло своим дочерям Гонерилье и Регане…
— Какая безнравственность!
— Нет, да ты, вероятно, еще не все знаешь? C'est un inceste!..[385] Ей поручили отвезти племянника, который еще до сих пор кадет или что-то подобное…
— О боже! Боже!
— Да, именно уж это настоящий criminal conversation de Byzance![386]
И она замотала руками и головой и пошла к двери, но хозяйка удержала ее у порога и сказала:
— Ты много сделала, что устроила опять Аркадия, но я боюсь — что, если он взаправду сумасшедший?
— Оставь и будь спокойна, — ответила Олимпия, — помни, что говорил Оксенштиерна:[387]«Не велик ум надо, чтобы делать политику».
Олимпия прижала ладони к своей кирасе и добавила:
— Это совсем не наша обязанность, чтобы поставлять умы для всего света, а наше métier совсем иное, и оно все в том, чтобы насыпать соли на хвост всем, кто рвется вперед.
Объяснив свое призвание, дама еще раз щелкнула себя по кирасе и, встряхнув руку хозяйке аглицкою встряской, сошла вниз, села в коляску наискось против часов, торчавших на пояснице кучера, и понеслась jouer un tour de son métier.[388]
XIV
Хозяйка осталась одна и сейчас же спросила себе пальто и калоши, взяла в карман флакон с нюхательного солью и ушла из дома, сказав, что хочет сделать покупки в «бракованной лавке».
Она чувствовала ту ужасную усталость, о какой может иметь понятие только актриса, исполняющая роль, которая не спускает ее целый акт со сцены.
Она была очень утомлена, почти измучена, но в ней еще много силы для таких же борений. Она скоро оправится на воздухе и будет в состоянии дать наилучший отчет на своем месте.
А пока кошка в отсутствии, без нее начинают шалить домашние мыши.
По уходе хозяйки горничная с китайскими глазами и фигуркой фарфоровой куклы прошла по всем комнатам и везде открыла форточки, а потом отдернула портьеру и отворила дверь из гостиной в будуар, который служил тоже хозяйке и ее кабинетом и тайником. Здесь девушка убрала беспорядок, потом вынула из кармана подобранный ключик, открыла им стол и, достав оттуда надушенный листок слоновой бумаги, зажгла свечи и начала выводить:
«Если предложения ваши обстоятельны, то хотя ваши лета и не сходны, но за вежливость вашу я согласна иметь для вас полные чувства, только никак не в вашем собственном доме и не при ваших людев».
Она перечитала написанное и внизу после своей подписи еще приписала:
«Только пожалуста с ответом по почте».
Написав это письмо, девушка достала из бювара своей госпожи конверт и начала тщательно выводить адрес. В это время портьера раскрылась с другой стороны будуара, и в комнату, выпятив зоб, как гусыня, вошла рослая белая женщина лет сорока пяти, с большим ртом и двухэтажным подбородком. Это была домовая кухарка.
— Достань-ка мне у нее пару папиросок, — сказала она горничной.
— Возьми сама, — отвечала девушка и продолжала надписывать конверт.
Кухарка взяла из сердоликовой коробочки несколько папирос, закурила одну из них и, севши на шелковом пуфе перед зеркалом, начала выдавливать ногтями прыщик на подбородке, а потом она запудрила это место барыниной пуховкой и сказала:
— Мочи нет как прыщи одолели!
— Не лакай черного пива…
— И то уж не пью.
— Ну, так не тискай мальчонков, которые приносят покупки.
— Ты, что ли, это видала?
— Еще бы! Зеленщикова мальчонку вчера, думала, ты, как русалка, совсем защекочешь.
— Он ребенок, еще совсем без понятьев.
— Так ты и станешь дожидаться евонных понятьев!
— Нет, я ведь, ей-богу, я только всего и люблю баловать да помять их, красивых детишков. У меня крестник уж был шестнадцати лет, да вот помер, — я и скучаю. А ты это на кого еще грех новый наводишь: кому это пишешь?
Девушка не ответила.
— Думаешь, я не знаю! А я знаю!
Китаянка опять промолчала.
— Хочешь, скажу?
— Ну, говори!
— Генерала ты путаешь, вот что!
— Ну, так и знай, что его самого!
Она стала наклеивать марку.
— Вот ты надо мной смеешься, что я ласкаю детишков, а сама хуже попалась.
— Ничего не попалась.
— А отчего ж ты ревешь и некрасивая стала?
— Реву о том, что дура была, — в верности жить полагала.
— Вот то-то и есть; а теперь и видать — непорожняя.
— И врешь, ничего еще пока не видать.
— Отчего же, когда батюшка был, он меня поблагословил и попить мне чайку дал с своего блюдца, а тебе нет?
— У меня на лбу петушки были натрепаны: он не любит. Да и не надо: не все то и сбывается, что он говорит.
Кухарка покачала головой и, вздохнувши, сказала поучительным тоном:
— Да, уж это неизвестно, почему так он по купечеству много отмаливает, а в разных званьях не может.
— Не потрафляет!
— Не надо, дружок, так говорить, потому что хотя он и не потрафляет и не все пусть сбывается, ну, а все мы должны верить в божье посланье, хотя я и сама… этой драчихе, которая царапает, так бы ей все космы выдрала!
— И отвели бы тебя под суд, — сказала девушка, у которой нрав был шкодливый, но робкий. Но кухарка, женщина опытная, смело ей отвечала:
— Ничего не значит: «нарушение тишины беспорядка! Восемь дней на казачьем параде!» Ей-богу, вздую!
XV
В это время внезапно раздался звонок. Кухарка и горничная обе быстро вскочили: девушка проворно опустила письмо в карман и побежала отворить парадный вход, а кухарка прошла в коридор, соединяющий переднюю с кухней, и притаилась у двери.
Вошел Валериан и негромко спросил:
— Кто у нас?
— Никого, — ответила девушка.
— А мама?
— Вышли.
— Не вышел ли, кстати, и из тебя твой дурацкий каприз?
— Как не дурацкой! Скажите, пожалуйста… нечего мне капризничать?
Девушка забирала самую бранчивую ноту.
— Возьми, пожалуйста, вот это себе и не дуйся, как дама женского пола.
— Что это такое?
— Серьги.
— Мне не серьги нужны, а добудь мне средство.
— После добуду.
— Нет, вы меня обманываете! Я вам не дура!
— Бери пока это!
— Не надо.
— Что за глупость! Кому же я их отдам?
— Мне что за дело? Я не хочу! Ничего от вас не хочу, потому что вы не благородный господин и студент, а самый низкий и подлый мужчина!
Валерий хотел ее остановить какою-то грубостью, но она дернулась и сказала:
— Смей-ка, посмей! — и ушла в свою каютку.
Молодой человек юркнул туда же за нею и заговорил с лаской:
— Послушай… Ведь ты же хотела… ты просила сережки… Бери же теперь, когда куплено!
— Куплено!.. Где?.. В чьем магазине? Или, быть может, сдернул шутя у Савки на лавке?
— Зачем ты этакие пошлости говоришь?
— А как же не спросить? Быть может, их и носить нельзя?
— Это еще что за глупость?
— А, может быть, эта жимолость увидит и с ушами оторвет.
Молодой человек вспыхнул.
— Какая «жимолость»? — вскричал он.
— Да старуха-то эта… ваша Камчатка… Ведь она… жимолостная…
— Какая Камчатка!
— Не знаешь!
— Разумеется, не знаю!
— Полно дурака-то валять!
— Я тебе говорю, что не знаю: что такое Камчатка и почему Камчатка!
— Так ты у нее спроси, что это она сама Камчатка или за нее других посылают в Камчатку, а только я ее не боюсь и говорю, что она самая преподлая-подлая и уж давно бы ей бы пора умирать, а не ребят нанимать, которые хуже самой болтущей девчонки.
— Однако ты действительно невыносимо забываешься!
— Что же? Мне еще можно. Зато, когда старухой сделаюсь, не позабудусь.
Валериан бросил свой подарок на комодик девицы и, сжав ее руку, прошептал:
— Я тебя ненавижу!
— Чего благороднее, как теперь ненавидеть!
— Ты сама довела, что мне стала противна.
— А противна, так зачем ты сюда пришел?
— Я только и хотел тебе это сказать, что ты скверна!
— Ну да! Сделайте одолжение!.. Непременно скверна!.. Для кого-нибудь не скверна, а ты сказал, и уходи. Совсем напрасно ваши пульсы бьются…
— Ты врешь, мои пульсы не бьются!
— Ну да!.. Оно и видно!
— Ну так я тебе это сейчас объясню, для чего они бьются.
— Э, нет, брат, нет, нет! Я уж от этих ваших объясненьев-то вон каким уродом стала, что даже все замечают.
Он что-то сказал, но она отвечала: «нет», потом опять: «нет», и потом еще:
— Нет, нет, нет! Что-о?.. Ага!.. Нет!.. Подаренье мне — это в состав не входит, а ты виноват и прощенья проси.
— И еще попроси!