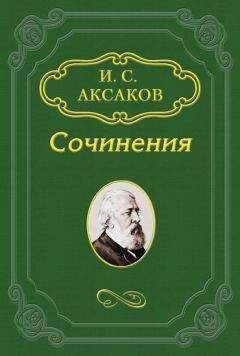Сергей Сергеев-Ценский - Неторопливое солнце (сборник)
У Мегакла было пиршество. На длинной веранде за столом возлежали гости и пили густое кипрское вино из дорогих кубков.
И никто не слыхал старика.
Но кончил он, и запел молодой рапсод, запел звучным и властным голосом новые, непривычные для слуха песни. Могучим мастером были скованы песни и славили гордый человеческий ум.
«Человек — полубог, — говорили песни, — но придет время, и он будет богом».
«Человек — в мечтах, — говорили песни, — но придет время, и мечты будут делом».
«Туда, в сверкающую глубину новых веков, как прикованный, смотрит взор».
«Придет время, когда о том, что было, не будут лепетать и младенцы».
«Весь полный настоящим, весь творец будущего, непокорный и всем владеющий, будет стоять человек на побежденной им земле!»
«А когда овладеет он всем, то будет богом».
И еще звучали последние звуки голоса и кифары, когда поднялись из-за стола гости Мегакла посмотреть на певца.
А он стоял молодой и стройный, с черными кудрями и гордым взглядом.
— Кто сложил эти песни? — спросили гости.
— Я слышал их, — отвечал рапсод, — еще мальчиком в родной Эанфии от Демада, изгнанника из Афин.
На другой день морем через Коринфский залив в маленькую Эанфию поехали трое богатых юношей, чтобы почтить Демада, как полубога.
— Он должен быть высок, как эта мачта! — говорил один из них, сияя глазами.
— Он должен быть могуч, как это море в бурю! — говорил другой.
— Он должен быть прекрасен, как вечерняя звезда на этом небе! — мечтательно говорил третий.
В маленькой Эанфии им показали Демада, изгнанника из Афин.
На грязной циновке на дворе сидел дряхлый калека. Голова его серела остатками спутанных, всклокоченных волос.
Черными, костлявыми руками сосредоточенно и жадно искал он в изорванной тунике паразитов.
1898
Улыбки
Из Карабаха в Партенит едем мы на палубе яхты «Титания»: я, Тимофей — маляр, две барышни-московки, караим-студент, двое мелких купцов откуда-то из средних губерний, перс с чадрами и несколько человек рабочих и татар.
Ясное небо, солнце, сентябрь, и от берегов к морю сильно тянет приторным осенним медом. Все есть в этом меду: виноградники, грушевые сады, кипарисы… И совершенно голые сизые и красные скалы на берегу тоже как будто пахнут каленым камнем.
С моря, откуда-то из сини и шири, всплывает свой запах — соленый и крепкий, а яхта дышит свежей обветренной смолой и терпкой пенькою мокрых канатов.
В потоках солнца и запахов круглятся лица: сливочно-белые, мягкие, чуть веснушчатые, но еще не успевшие загореть у девиц-московок; прожженные до костей, просушенные, как вобла, дубленые, складчатые — у татар; вздутые, пылающе-красные, с облупившейся на носу кожей — у купцов; оливковое гладкое, широкоскулое — у студента-караима; кофейное, с синим лоском от небольшой смоляной бороды и пота — у перса; и разнокалиберные, волосатые, оплывшие, разных цветов и оттенков — у кучки русских рабочих, свалившихся ближе к косу яхты со своими неизбежными туго набитыми, перевязанными красным кушаком, грязными холщовыми метками.
Ошеломляюще много солнца кругом. Над палубой распялили тент — не помогает. Солнце вонзилось в тело тысячью клиньев, растопырило его, рассквозило — и теперь в нем теплота и лень: ни о чем не хочется думать.
Тимофей, рядом со мною, весь переливисто сияет. Ярко золотится на нем широкий соломенный бриль, парусиновый рабочий пиджак, белая жилетка и брюки — все заляпано цветными полосами и пятнами, как палитра; сорокалетние щеки его горьмя горят, подожженные снизу длинными рыжими усами; весь он точно наскоро сколочен из каких-то нестерпимо ярких обрывков и обломков, и смотреть на него больно глазам.
Тимофей — охотник. В сентябре начинается птичий перелет через морс. Теперь тянут перепела, и вот именно о них говорит мне он и по-детски, как осколками стекол, блестит серыми глазами.
Непонятно мне, как через такое огромное море перелетают нелепые кургузые перепелки, которые и на земле-то далеко не летят, а Тимофей это знает.
— Дергачи их ведут, — объясняет мне Тимофей.
— Как дергачи?
— Так, очень просто, — снисходительно улыбается Тимофей. — Сейчас, значит, в России на полях они все… Дергачи — а то «коростели» их еще зовут — как вечер, заря отошла, подымаются это и начнут разлетываться, вот так, кругами, подымается один и кричит… Не то чтобы по-своему, по-дергачиному, — прямо как дрофиня кричит… Подумаешь, какая такая огромная птица кричит, а это дергач. И вот, значит, к этому месту, какие дальние — лётом, какие ближние — котом по земле, смалят перепела эти — тыщи!.. Подойди к этому месту — сразу фурор, — так и брызнут. Ну, так чтобы очень уж далеко, — нет; отбегут и сядут — голову в кочку — и шабаш, спрятался, не найдешь: страсть птица смешная!.. А потом, значит, ночь — в лет. Вожаки эти, дергачи, передом, перепела следом и смалят. Жирные, отъедаются, с шумом с большим летят… И ведь вот дергач, сказать, — какой летун? Ни пера, ни крыла, только ноги да шея, — сгонишь его с места, как пьяный туда-сюда шатает, а вот ему дай разлететься только: размялся, разлетелся — по-ле-тел! И уж тут тебе летит — прямо пуля!.. Вожаки, они это, как козлы в стаде. Застопорил если — стоп, вся стая села; в море упал — вся стая туда к черту, в море… Был у нас такой случай. Летели ночью, а их тут с гор как дунуло ветром, да дождь, холод, — да ведь тут их бездна легла; на базаре, на пристани это да по берегу — большие тыщи их тогда прямо руками набрали. Уж полиция вступилась: не смей трогать. Так они на базаре-то — вот смех был! — разбеглись везде, прямо как мыши, так и зашуршели везде… Добегит до стенки, голову в ямку спрячет, сидит — не жукнет… Птица ведь дикая, а поди ты, сидит, как цыпленок: прямо смотреть жалость брала…
Тимофей говорит, все время улыбаясь и всячески действуя руками. У него большой кадык под давно не бритым подбородком и голос рокочущий, мягкий. Я не знаю, чему так улыбается он, но эта улыбка — ласковая сетка разных мелких морщинок — как-то притягивает, втягивает, всасывает меня во что-то радостное, в детство.
Я давно уже знаю Тимофея. У меня на даче он красил новые полы, и когда полы покоробились и встали буграми в пазах, он ощупывал их руками и говорил удивленно:
— Ишь ты как!
— Прошпаклевал плохо, — замечал я.
— Не-ет! Нет, это не от шпаклевки зависимость, — качал головою Тимофей и хорошим таким, замечательно душевным голосом разгадывал загадку. — Это просто сфуговать надо было, а мы не догадались.
И когда на окрашенном им же балконе в то же лето потрескалась и облупилась белая краска и я сказал ему укоризненно: «Мелом красил?» — он улыбнулся длинно, так же как улыбался вот теперь, и ответил:
— Не-ет! Еще какие замечательные белила были!.. Нет… Это от солнца.
Я смотрю на Тимофеевы глаза, усы и щеки, нa колючий широкий подбородок, на низковатый морщинистый лоб, вижу, как все это движется, живет, вкладывается целиком в каждое его слово, и как-то становится все страшно внимательным в моей душе, точно я никогда не видал, как смеются и говорят люди; и слова его для меня не слова: я их осязаю, вижу, и, боясь, как бы не порвалось их цветное кружево, я говорю о перепелках:
— Ловят их небось на перелете?
— У-у, а как же! — живо подхватывает Тимофей. — И ловят и бьют — всячески. Много истребляют… Истребление большое… Ружьями по кустам (только иди днем, в каждом кусту перепел, а нет — два), пугнул, стрельнул — и готово… А татары, те их палками прямо бьют — чаталы, палки такие из карагача режут, ветки у него это… ветвление такое частое, — обрежут ветки так на четверть — палка не палка — квадратная совсем, как бросит перепелу в лет, лучше ружья убивает… Чуть-чуть ее стоит только самую малость задеть сучком, так и падет: жирная, подлая… А вот турки в своей земле, те прямо сети на них ставят, как на рыбу, к телеграфной проволоке привяжут, как летят они, так прямо в сеть головой и есть. Утром идет с мешком, никакой себе спешки не знает, столько их наберет, большие тыщи!.. Только они их там не то что в еду, на сало топят: сало выгонят, а мясо бросят — вот черти! А из них ведь, если пилав с помидорами сварить, отца-мать забудешь, как звали… А вот здешние турки на них с ястребами ходят — так небольшие ястребки вроде кобчика, выучат их (а выучат как? — не кормят), на руках носят и ходят по кустам с палкой. Ширнет туда-сюда — перепел: он ястреба пырь — тот за ним, догнал, сшиб, тут же и драть зачнет: долб-долб, а на груди колокольчик. Турка к нему — а он так на гайтане, на шнурке на таком, с ним и летает. Подойдет, за гайтан цап — есть, голубчик. Перепелку отберет, в мешок, а сам дальше, опять по кустам ширять. А ястребки эти завзятые такие, — на кого хочешь кинутся, не то на перепелку: гуси летят — на гусей, дрофы — на дроф; смотреть — смех берет. Ведь сам-то прыщ, вот так — крылья косяком, серенький, ну, кобылка у него, значит, здоровая, — кобылкой и бьет… Гуси-то где летят?.. А он еще выше их подымается да как свистнет оттуда, — как буря прямо. Гуси — кто куда: гогот, кто в эту сторону, кто в другую, другой назад, а из него, из гуся, из одного таких десять ястребов выйдет… Я вот раз видал, как он их это, как ударил сверху, — кто куда, а один прямо турманом вниз! Оголоушил он гуся, — сила у того еще есть, а только понятия никакого нет: куда ему лететь, что ему делать, — прямо рассудка нет: кружится и падает, кружится и падает… Надо мной как раз и падал. Вот, думаю, ловко: домой с гусем приду. И уж так его видно стало, ястребка-то: сидит на груди, прижался и долбит, как дятел какой: долб-долб-долб… Я это руки вверх: т-ты, черт! — как крикну, — ястреб сорвался, вбок, а гусь это (море счас тут было, — по берегу я шел), гусь в море как зашумит… Ну, очухался там, поплыл… Ястребок вертелся-вертелся, — по-одался!.. Куда этот гусь делся, — так и не досмотрел я… Ну и жалко ж было: прямо вот-вот в руках был… Чуть бы чуть еще, — и был… А то еще раз видал, как в дрофу ударил: так от нее перья и посыпались. Ну, дрофу он, конечно, только сшибить наземь может, потом уж когда-когда драть зачнет: работы ему с дрофой тьма!.. Сверчок ведь, чистый сверчок, а поди ты, кобылка у него какая!.. — И, говоря это, Тимофей обводит меня и сидящих напротив барышень своим сияющим взглядом.