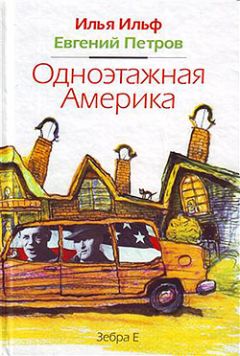Михаил Кузмин - Подземные ручьи (сборник)
— Это, конечно, большое преимущество твоего воспитания, — начал было один из пожилых молодых людей, но, взглянув на небо, захлопал в ладоши. Выскочивший слуга, очевидно, знал, в чем дело, потому что, не дожидаясь приказаний, подал сенатору пуховый плащ на стеганой подкладке. Закутывая горло и даже прикрыв рот оранжевою полою, гость не переставал говорить.
— В дом, в дом скорее! немедленно в дом! Смотрите! — и он театрально вытянул было руку вверх, но сейчас же спрятал ее под одежду.
По затуманенным малиновым облакам стремглав носились ласточки, чертя правильные подвижные узоры, словно в какой игре. Квадратный отрезок над двором походил на взятую отдельно часть большой картины. Небо пухлой сияющей, багряно-шелковой подушкой, казалось, готово было сейчас опуститься на голову. Откуда появлялись и куда пропадали птицы, было неизвестно.
В промежутках, выше ласточек, толклись столбом мошки. Все с удивлением взглянули на небо, но сейчас же, равнодушно улыбнувшись, перевели глаза на Клавдия, — только провинциальный Парис остался с мечтательно задранной головой, причем еще яснее обнаружилось нежное очертание его прямого носа и пухлого подбородка.
— В дом, господа! мой совет: в дом, если вы не желаете схватить лихорадку.
Молодые люди поднялись со скамейки и, потягиваясь, вихляво ступая засидевшимися ногами, направились к толстому ковру, колыхавшемуся над тремя широкими ступенями.
Семпроний подождал, когда с ним поравняется всесветный путешественник.
Задержав его, он спросил вполголоса:
— Хотел спросить тебя! ты видел его?
— Кого?
— Юношу.
— Антиноя?
Семпроний без слов кивнул головою.
— О, несколько раз! божественно!
— Хотел спросить тебя… Говорят… Конечно, это вздор… Но вглядись в меня. Тебе не кажется, что я его напоминаю?
— Это — мысль! Я не подумал об этом. Я все ломал себе голову, где я тебя встречал. Так, так! Он плотнее тебя, конечно.
Семпроний передернул узкими плечами.
— Ты веришь в магию?
— Это — смотря, друг мой. В ведьм этого дурачка из Испании я не верю, и нашей хозяйке не особенно.
— Но она сильно пойдет в гору.
— Ты думаешь?
— Уверен, хотя это меня и мало интересует. Семпроний уже взялся рукою за ковер, как к ним подошел третий человек. Это был один из раньше бывших здесь гостей, но надетая только сейчас остроконечная войлочная шапка так изменяла его, что он казался незнакомцем. Худощавое лицо было смугло и не по-римски скуласто, веки наполовину закрывали чрезмерно выпуклые глаза, и тонкий рот был почти совершенно лишен губ. Покуда Семпроний рассматривал его, он вдруг заметил, что они уже вдвоем и небо стемнело. Из-за ковра изредка доносились пронзительные пробежки высокой арфы. Незнакомец (все-таки для Семпрония он оставался незнакомцем) молчал, и в неверных сумерках лицо его кривилось пробегавшей, как винт, судорогой.
Наконец, будто с трудом преодолев косноязычие, он глухо произнес:
— Радуйся, ты будешь славен! молчи. Мне нужен знак, и он будет дан. Ты грезишь, как в пещере Трофония, но Элохимы дальних стран тебя осенят крылами. Как высока твоя звезда, Семпроний, печальна, но высока! Одна лишь звезда Бактрианских сновидцев выше была, и не превзойти твоей сладостной Нильской звезде, что скоро зазеленится над нежною жертвой. Славен в своей печали ты (радуйся) будешь!
Тщеславная улыбка, на миг зацветшая на губах Семпрония, тотчас исчезла. Он отступил почти в страхе. Какая слава? Вдруг все честолюбивые планы, самодовольная память о собственных достоинствах показались ему ничтожными и бессильными. Даже самая красота жалкой. Горчайшее сомнение и отчаяние наполнили его сердце.
Скуластый прорицатель, закинув к небу острый колпак, ждал. Чего? Семпроний не двигался. Арфы невыносимо и бессмысленно переливались на высочайших нотах.
Вдруг Семпроний вскрикнул. Летучая мышь, как печать, влипла в его белую тунику против самого сердца. Повисев секунду, оторвалась и взлетела у его лица, коснувшись крыльями и тонкими лапами его волос.
Азиат упал лицом на песок, завопив:
— Знак! знак! Еще ли ты сомневаешься, ты, который умрешь и воскреснешь? Придешь ли ты к верным, которые ждут от тебя спасения и царства?
— Приду! — серьезно проговорил Семпроний и прибавил важно: — Завтра пусть ждут меня после захода солнца. Ты проведешь меня.
Ему самому показалось бы странным, что он мог сомневаться минуту тому назад, и когда он входил в теплую надушенную залу Лии, он держался прямо, забыв о своих узких плечах, был величественно бледен, а вспотевшие волосы на лбу и висках сбились и прилипли к коже, будто он несколько дней лежал в гробу или только что снял с головы диадему.
Невеста
В глазах Семпрония еще белел Лиин платок, которым она махала при отъезде. Пристань была нелюдной, и плоский берег песчаным. Птицы мирно сидели, взметываясь при каждом взмахе прощального платка. Собака Лии сидела тут же и выла, не двигаясь. Женщина переходила с места на место, увязая в песке немного длинными сухопарыми ногами. Может быть, плакала. Ему казалось все это нестерпимой аффектацией. Берег давно исчез. Паруса и кудрявое облако опять напомнили еврейку и ее платок. Конечно, он не мог разглядеть, да и не старался сделать это, он просто знал, что этот кусок тонкого полотна по краям был расшит розовым и черным шелком. Узор сплетался розами и пятиугольными звездами. Лия так часто показывала его, уверяя, что рисунок имеет магический смысл, что Семпроний невольно запомнил его. И бледное лицо, и судорожные поцелуи, сильные куренья, загадочные напыщенные речи и вечно, вечно эта черная собака рядом, — все походило на неисправимый провинциализм. Иерихонская Сивилла! Он улыбнулся. Однако она была страстна, этого нельзя отрицать, но все шло от воображения и полового темперамента, не от сердечного чувства. Вероятно, тихое море настроило его идиллически. Простые пассажиры не представляли интереса, однообразная синяя пелена утомляла, фонтанчики дельфинов напоминали, как мочатся дети, матросы под вечер тихонько пели.
Он мало путешествовал и завидовал Антонию, усталую красоту которого видели почти все страны. Говорят, он похож на него лицом. Он сам знает, что он красив. Несколько деланная разочарованность, по его мнению, придавала новую прелесть его красоте. Семпроний знал и свои недостатки — покатые плечи и слишком тонкие ноги, вообще, он был несколько хилым для римского вкуса. Ночное небо было таким же, как и в городе, очевидно, путешествие не обещает никакой новизны. Утром обнаружилась новая пассажирка, высокая женщина лет двадцати пяти с величественной осанкой и свежим цветом лица. Она оказалась богатой помещицей, сиротой, ведущей сама хозяйство и больше понимающей толк в стрижке овец и заготовке маслин, чем в уловках кокетства. Два молодых человека в потертых плащах, дико нарумяненные, с подведенными глазами, все время играли между собою в кости без денег и ничего не ели. Они не показались Семпронию даже забавными. Только подъезжая к Марселю, он вспомнил с надлежащей силой, что едет к Альбине, кроткой Альбине, своей невесте, обрученной ему еще с детства. Три года он ее не видал. Теперь ей семнадцать лет. В этом возрасте перемены быстры и заметны. Да разве сам он похож на прежнего Семпрония? Три года римской жизни, Юлия, Лия, Симон, императоры, весь блеск, низость, полеты и падения честолюбий, искусства, пиры и медное величие государственности, не одинаково, конечно, его привлекавшие, одинаково кружили ему голову. Но теперь, теперь только яблочный сад, только круглое личико с синеватыми жилками, только голубая в пепельных волосах лента девочки Альбины, — только такой семейный круг, рассказы почтенного Тимофея, смех детей и такие знакомые веселые комнаты, тихие прогулки вдоль городского вала, где невеста его еще по-детски, сама как бабочка, гонялась за белыми мотыльками. На платке Лии между розами и звездами был вышит распростертый мотылек, но он был черен, словно обугленный, и, казалось, никогда не мог бы летать. Ученики Симона любили упоминать о бабочке Психеи как о воскресшей душе. А тело? воскреснет ли и оно? Семпроний протянул руку; молочно-белая, немного вялая, она показалась ему неживой. Смерти он боялся, тление внушало ему главным образом страх, хотя блаженный покой, елисейские поля, загробная роща были милы его усталому воображению. Но он не раз видел покойников, и нездешняя окаменелость, провалившийся рот, пятна разложения и тошнотворный, ни с чем не сравнимый запах были ему донельзя противны. Вид падали учил его участи трупов. В деревне долго не убирали палого вола, и Семпроний лишился чувств, наблюдая поток червей, колыхавшихся гадкой волною по крутому синему боку. Тогда он был еще мальчиком. Семпроний не предупреждал о своем приезде, думая сделать приятную неожиданность, так что его никто не встречал. Вообще, за эти три года он имел мало сведений о семье Альбины. Тимофей, как человек неделовой и неторговый, не был аккуратен в переписке, к тому <же> грек по матери, он был беспечен и забывчив. Да и кто бы подумал, что в декабрьские бури Семпроний отважится на морское путешествие? Только по счастливой случайности море было спокойно, кажется, к неудовольствию Лии, воспаленная фантазия которой рисовала уже жестокого юношу в виде Леандра. Посинелые глаза, мокрые кудри, грудь, которой движение волн придает видимость дыханья. Ничего этого не случилось. Семпроний школьником, за которым не следит дядька, пробежал почти весь город до спокойного квартала, где жила Альбина. Двор и дом за три года, казалось, сделались гораздо меньше. На вторую осеннюю мураву легко падал редкий снег, не тотчас тая; привратника и собаки не было, перед статуей Гермеса тихо горела лампада, защищенная от ветра тонким алебастром. Свет был тепел и розов, как тело. Сизые тучи грозили новым снегом.