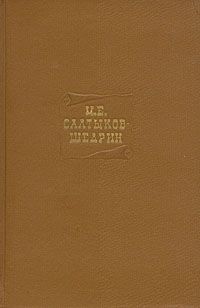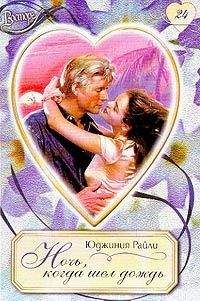Михаил Салтыков-Щедрин - Том 17. Пошехонская старина
Салтыков, таким образом, не отрицает присутствия «автобиографических элементов» в своей «хронике», но ограничивает их роль и значение, настаивая на том, что он писал не автобиографию или мемуары, а художественное произведение, хотя и на материале своих воспоминаний.
Действительно, Салтыков отнюдь не ставил перед собой задачи «полного восстановления» — «restitutio in integrum» всех образов и картин своего детства, хотя они и предстояли перед его памятью «как живые, во всех мельчайших подробностях». Вместе с тем биографический комментарий к произведению, осуществленный при помощи материалов семейного архива Салтыковых и других объективных источников, устанавливает, что в «Пошехонской старине» есть много автобиографического, что писатель воспроизвел на ее страницах, и очень точно, немало подлинных фактов, имен, эпизодов и ситуаций из собственного своего и своей семьи прошлого[81].
Автобиографичность «Пошехонской старины» подтверждают, сверх архивных документов, и свидетельства лиц, близко стоявших к Салтыкову и которым так или иначе пришлось критически сопоставлять повествование Никанора Затрапезного с изустными рассказами о себе самого Салтыкова.
«Пошехонская старина» его, — утверждал земляк и друг Салтыкова А. М. Унковский, — эта та самая среда и есть, в которой подрастал будущий сатирик. Действительно, этот уголок губернии <Тверской> был самым несчастным: крепостное право доходило в нем до ужаса… Помещики даже морили себя голодом из экономии»[82]. «Очень охотно любил он говорить о своем прошлом, — пишет главный мемуарист Салтыкова, доктор Н. А. Белоголовый, — вспоминать свое детство, и значительную часть этих детских воспоминаний я нашел впоследствии воспроизведенной в его «Пошехонской старине»…»[83]
«Едва ли можно сомневаться в том, — замечает К. К. Арсеньев, — что «Пошехонская старина» дает верную картину умственного и нравственного развития Салтыкова, доведенную, к сожалению, только до окончания домашнего воспитания, то есть до десятилетнего возраста»[84]. То же самое утверждает другой биограф сатирика из его современников, С. Н. Кривенко. По его словам, многое из того, что Салтыков лично рассказывал ему о себе, оказалось воспроизведенным с буквальной точностью в «Пошехонской старине»[85].
Насыщенность «Пошехонской старины» автобиографическими элементами несомненна. И все же даже наиболее «документированные» страницы «хроники» не могут безоговорочно рассматриваться в качестве автобиографических или мемуарных. Для правильного понимания «автобиографического» в «Пошехонской старине» нужно иметь в виду два обстоятельства.
Во-первых, биографические realia детства Салтыкова введены в произведение в определенной идейно-художественной системе, которой и подчинены. Система эта — типизация. Писатель отбирал из своих воспоминаний то, что считал характерным для тех образов и картин, которые рисовал. «Теперь познакомлю читателя с <…> той обстановкой, которая делала из нашего дома нечто типичное», — указывал Салтыков, начиная свое повествование — и продолжал: «Думаю, что многие из моих сверстников, вышедших из рядов оседлого дворянства <…> и видевших описываемые времена, найдут в моем рассказе черты и образы, от которых на них повеет чем-то знакомым. Ибо общий уклад пошехонской дворянской жизни был везде одинаков…»
Во-вторых, и это главное, нельзя забывать, что в «Пошехонской старине» содержатся одновременно «и корни и плоды жизни сатирика»[86] — удивительная сила воспоминаний детства и глубина итогов жизненного пути, последняя мудрость писателя. С этим связана особая позиция автора, позиция двойной субъективности.
«Автобиографическая» тема в «Пошехонской старине» полифонична. Она двухголосна. Один «голос» — воспоминания мальчика Никанора Затрапезного о своем детстве. При этом маска этого персонажа нередко снимается, и тогда повествователь предстает перед читателем в лице «я» самого Салтыкова[87]. Другой «голос» — суждения о рассказанном. Все они определяются и формулируются с точки зрения общественных идеалов, существование которых в изображаемых среде и времени исключается. Оба «голоса» принадлежат Салтыкову. Но они не синхронны. Два примера проиллюстрируют сказанное.
В главе «Заболотье» автор пишет: «Всякий уголок в саду был мне знаком, что-нибудь напоминал; не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика». Это — воспоминание, одно из конкретных впечатлений детства. Но дальше следует автобиографическое обобщение приведенного воспоминания, вывод из него: «Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольной массой. Это может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни и что — только пережив все его фазисы — я мог прийти к полному, сознательному и страстному отрицанию его». Это — уже суждение, оценка детского опыта с позиций опыта всей прожитой жизни.
Другой пример — одно из интереснейших автобиографических признаний Салтыкова, сопоставимых лишь с аналогичными признаниями других великих социальных моралистов, Руссо и Толстого. Речь идет о главе V «Первые шаги на пути к просвещению». В ней содержится удивительное свидетельство Салтыкова, совпадающего здесь с Никанором Затрапезным, об обстоятельствах своего гражданского рождения, о «моменте» возникновения в его душевном мире — почти ребенка — сознания и чувства социальной несправедливости мира, в котором он рос. Салтыков считая таким «моментом» те весенние дни 1834 года, — ему шел тогда деаявда год, — когда, роясь в учебниках, он случайно отыскал «Чтения из четырех евангелистов» и самостоятельно прочел книгу[88].
«Для меня эти дни принесли полный жизненный переворот, — свидетельствует Салтыков от имени Никанора Затрапезного. — Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня… Я не хочу сказать этим, что сердце мое сделалось очагом любви к человечеству, но несомненно, что с этих пор обращение мое с домашней прислугой глубоко изменилось и что подлая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла мой язык, исчезла навсегда. Я даже могу с уверенностью утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего миросозерцания».
В своих воспоминаниях известный публицист Г. З. Елисеев, близко стоявший к Салтыкову, рассказывает, что, прочтя в «Вестнике Европы» цитированное признание, он заинтересовался, «насколько это сообщенное Салтыковым сведение о таком раннем возникновении в нем самосознания может считаться несомненно подлинным материалом для его биографии». «Мне никогда не случалось видеть людей, — поясняет Елисеев, — или даже слышать о таких людях, в которых бы в таком раннем возрасте являлось такое определенное сознание самого себя и всего окружающего…»
При первом же посещении Салтыкова Елисеев высказал ему свои сомнения по этому поводу. «Но, — пишет он, — Салтыков отвечал мне <…> что именно было все так, как он описал в своей статье». Через некоторый промежуток времени, по другому поводу, Салтыков повторил Елисееву, что «то, что он написал о своем раннем развитии в детских летах <…> действительно было именно так, как он написал»[89]. Другой современник, также давно и хорошо знавший Салтыкова, А. Н. Пыпин, в свою очередь, также заметил по поводу приведенного признания: «Едва ли сомнительно, что он рассказывает личный опыт»[90].
Действительно, нет оснований сомневаться в субъективной достоверности признания Салтыкова. Но очевидно и другое. В этом признании отчетливо различимы два разновременных пласта, каждый из которых является бесспорной автобиографической реальностью.
Хронологически знакомство с евангельскими словами об «алчущих», «жаждущих» и «обремененных» принадлежат восьмилетнему мальчику, с богатыми задатками духовного развития. Ему же принадлежат и воспоминания о том, как он самостоятельно приложил эти слова из проповедей и социальных максим раннего христианского «социализма» к окружавшей его конкретной действительности — к «девичьей» и «застольной», «где задыхались десятки поруганных и замученных существ». Но оценка этих дней как события, принесшего автору воспоминаний «полный жизненный переворот», имевшего «несомненное влияние» на весь позднейший склад его мировоззрения, принадлежит уже не мальчику, а писателю Салтыкову, подводящему итоги своей жизни и деятельности. В этой оценке, в этих словах и формулировках очевиден отпечаток зрелой мысли Салтыкова, с ее крайним просветительским идеализмом, с ее страстной просветительской верой в могучую, преображающую силу слова, убеждения, морального потрясения. Возникновение чувства социального протеста, первых эмбрионов его, Салтыков изобразил как результат «внезапного появления сильного и горячего луча», «извне пришедшего» и глубоко потрясшего его детский, «но уже привычный взгляд на окружающий мир» крепостнического бесправия. Однако дальше Салтыков пишет: «В этом признании человеческого образа там, где, по силе общеустановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба, состоят главные и существенные результаты, вынесенные мной из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года».