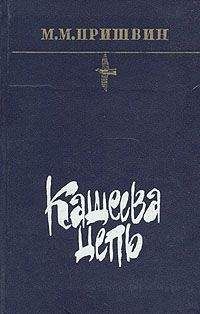Михаил Пришвин - Том 2. Кащеева цепь. Мирская чаша
– Кому же вы служите, богу или маммоне? – спросил я Ивана Алексеевича.
– Я служу своему семейству, – ответил он, – считаю, что в семействе моем самое мое лучшее; семья есть мое государство, и ему я служу.
В городе пустили кукушку, будто у Ивана Алексеевича есть секретные ленты и ими он потихоньку разжигает в своей «Модерне» любителей женского пола и потом устраивает им свидания в своих банях с отдельными номерами. Оттого, говорили в городе, и дела его так хорошо идут: с одной стороны – священная миква; с другой – парижские секретные ленты; с третьей – русские бани, и все это связано в один узелок «для развращения местного населения». Каждому в городе всегда завидны yспехи соседа, каждый хотел бы химиком быть, но не каждый способен на это и потому всегда выдумывает какую-нибудь причинку: без причинки, говорят, не съешь ветчинки. Так и про Ивана Алексеевича пустили эту кукушку по городу. Прилетела кукушка к губернаторше и возмутила высокую даму; кстати, вспомнила, что это Иван Алексеевич распустил слух, будто она деньги, собранные с белого цветка, истратила на свои бархатные юбки. Haпрасно теперь Иван Алексеевич предлагал свои услуги в деле распространения славянских флагов, напрасно обещал от себя крупное пожертвование: губернаторша была неумолима и убедила начальника края закрыть кинематограф или же перенести в ту часть города, где помещаются исключительно только дома свиданий и ни один порядочный человек там не бывает. Случилось как раз в это время, что и евреи, выстроив наконец собственное здание для священной миквы, отказались платить Ивану Алексеевичу ренту за бани. Все это вместе было так неожиданно для Ивана Алексеевича, что и его «химия» не помогла: разорился в неделю.
Были как раз в это время выборы, и один местный политический деятель захотел воспользоваться разоренным и ожесточенным Иваном Алексеевичем как материалом: нужно было, чтобы кто-нибудь осмелился громко заявить о беззакониях, совершаемых губернатором.
– Что вы ходите по трактирам, – сказал деятель, – и жалуетесь всем на свою обиду. Вот взяли бы да и приняли к сердцу общую обиду.
– То есть, как же это я от своей обиды к общей перейду? Это не путь! – ответил Иван Алексеевич.
– У других такие же обиды, слейте обиду с общей. Вот вам и будет путь.
Иван Алексеевич задумался. Может быть, первый раз в своей жизни встретился он с тяжким вопросом: как от своей обиды перейти к общей обиде и почувствовать общее как свое.
– Понимаю, – воскликнул он, – понимаю: вы хотите от меня вывода!
И до того взволновался Иван Алексеевич, что сеть синих жилок на его седеющих висках вдруг стала багровою. Говорили потом, что от этих багровых жилок он и умер, но мне приходит в голову вопрос: «А может – от этого вывода?»
Ведь я же был свидетелем, что именно от сознания необходимости «вывода» вдруг жилки эти стали багровыми, а не наоборот: не от багровых жилок явилась необходимость вывода.
– Вы хотите от меня вывода? – воскликнул Иван Алексеевич. – Не могу… Если бы я понимал, что из-за большого и единственного я протестую… Как бы это вам объяснить? Ну, что вот из-за того, что один-единственный раз к человеку приходит, – я – видит бог – первый пойду. А как вы говорите, то я должен на свое место человека поставить; пусть он кормит мое семейство, а я, стало быть, взовьюсь. Войдите в мое положение, посудите сами, будет ли это вывод, если я загублю все свое семейство – одиннадцать номеров – детей и жену? Ведь я же раб своего семейства, я – не я, я – во множественном числе.
– Рабы освобождаются!
– То есть меняют свое положение, – ответил Иван Алексеевич, – а на что же я могу свое положение переменить? Я человек семейный, семья – мое государство! Не на что мне менять-то семью, вывода не будет.
Невозможно! Остается только терпеть и менять свой характер. Терпишь, смотришь, узнаешь и видишь, что вот все было худое, а стоит разобраться – и видишь, что худое было к лучшему, и тут двояко: вперед смотреть – все виноваты во мне, а назад – я во всем виноват, и что чаша терпения пьется горько, а выходит сладко. А как только испытал эту сладость, то и смотришь осторожно на будущее и мало-помалу приходишь к тому, что не задирай заусениц, а погладь с другой стороны.
– Зачем же гладить? Вы сделайте вывод.
– Вот то-то, что страшно. О прошлом, конечно, я могу формулировать, а сделать вывод о будущем… Как я сделаю вывод, а маммона? Я должен тогда от маммоны отказаться; а откажусь вовсе, ну, хоть уйду в монастырь, семья опять-таки умрет с голода; ведь я же семейный, у меня одиннадцать номеров, я – раб своего семейства, я – не я.
Последний раз я встретил Ивана Алексеевича в «Коптилке», – так называется у нас учреждение, подобное чистилищу, где люди еще не совсем разорвали связь с жизнью, чтобы перейти в иное бытие, а в ожидании этого проводят время за картами.
– Что это такое? – сказал Иван Алексеевич. – Всё думаю, думаю, кто скажет, что это: сидят люди взрослые и целую ночь перекидывают листики. А знаете, что это? Это жизнь! Это жизнь продолжается. Как в жизни, так и тут сразу характер человека узнается до мельчайшей черточки, до волоска; люди все как на ладони, сидят и ждут своего счастья. Это жизнь! И есть тут умные и глупые, терпеливые и быстрые, рассудительные и поспешные, рассеянные и сосредоточенные. Казалось бы, просто: умный, рассудительный, терпеливый, сосредоточенный выиграет, а глупый проиграет. Нет! выходит часто наоборот. Что это? Что это еще тут действует! Вот что: повезло или не повезло. У одного все данные, и ему не повезло; у другого никаких данных, а ему повезло; ну, скажите, пожалуйста, что это?.. Заинтересованный вопросами «полевения страны», я осторожно спросил Ивана Алексеевича, как же это он решился подать голос за Смоляного, как это он свою обиду с общей сочетал и сделал вывод.
– Это не вывод! – усмехнулся Иван Алексеевич. – Это я так; вижу, что все так делают, что это необходимо, – и формулировал, а настоящего вывода я не сделал. Как я могу сделать вывод? Вот карты, одному повезло, другому не повезло, и ничем тут не поможешь; так же и жизнь: я живу, кормлю свое семейство – мне везет, а вдруг – не повезет? Ведь я не могу об этом вперед сказать, и кто – бог тут действует или маммона? Одно знаю, что надо уйти в монастырь, но опять, как я уйду? Ведь я – раб своего семейства, я – не я, я во множественном числе…
– Утешались на ложе своем, вот вам и последствие! – сказал кто-то из освободившихся картежников.
Иван Алексеевич на это ничего не ответил, но только жилки его на висках как-то уж очень подозрительно надулись, как канаты стали.
А вот теперь вижу я, как везут Ивана Алексеевича по мерзлой, каменистой дороге; виски по-прежнему седые, а жилок не видно, нос заострился, но лицо не успокоилось; вся голова болтается из стороны в сторону, словно летящие белые мухи щекочут и беспокоят ее: мухи направо – голова налево; мухи налево – голова направо; качается и качается…
Умер без вывода. Неба не видел.
Был только химиком.
Радий*
– Кому это памятник поставлен? – спросил кто-то сзади меня.
– Петру Великому, – не глядя на спрашивающего, ответил я.
– А змея зачем? Какую это он змею давит? – продолжал интересоваться неизвестный.
Не хотелось говорить, и некогда было: что-то буркнул о змее любопытному.
– Да куда это вы все спешите? Что бы нам как следует поговорить… Я не здешний.
Что-то мне понравилось в лице провинциала, я остановился, разговорился.
– Очень хороший памятник, – оглядывая Петра Великого, говорил купец. – Вот Александру Третьему… – он махнул досадливо рукой, – пропащее дело!
Пошли рядом к Английской набережной, сначала молча. Я не хотел спорить с купцом о памятнике. Мне лично памятник Александру III на Знаменской площади как произведение искусства, без отношения к существующим теперь вкусам и требованиям народа, нравится. Но стоит мне только представить себя на минуту не гражданином мира, а русским купцом, как вся эстетика исчезает, и памятник извращается в злую насмешку.
– Изуродовали царя! – сказал купец и, помолчав, продолжал. – Я на минутку приехал в Петербург… Был сейчас у митрополита; очень хороший человек! Жалеет белое духовенство: «Надо, – говорит, – возвысить этот класс, чтобы не попрошайничали у народа; только уж очень денег много нужно для этого; где денег достать?» Я отвечаю митрополиту: «Денег у монахов много, взять у монахов и отдать попам. На что деньги монаху? Монах должен быть живой мертвец между нами». Улыбнулся митрополит и отвечает: «Вы – самородок, вашими устами бы да мед пить».
«У митрополита бывает!» – удивился я словам Самородка. Вид у него – человека такого серьезного, делового и прямого; непохоже, кажется, чтобы он мог прихвастнуть и сболтнуть лишнее, а пальтишко старенькое, каракуль молью изъеден, карманы блестят, – подрядчик или прасол из провинции; невероятно, чтобы митрополит пускался с ним в такие разговоры.