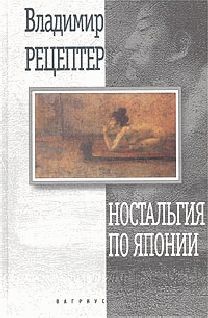Владимир Рецептер - Ностальгия по Японии
Между праздничными коврами с озабоченным видом шагали мои дорогие коллеги, стараясь не наступить на царскую роскошь и не ошибиться в прицеле: выбирать можно было по вкусу, а заказывать - не более трех...
- Фантастика, - восхищенно шепнул Миша Данилов.
А Слава Стржельчик, чей выбор был затруднен отсутствием в поездке любимой жены, растерянно бормотнул:
- Это - хулиганство...
Особенно хорошо картинка смотрелась с верхних этажей, и, сделав свой случайный выбор - вот этот, светло-желтого поля, обширный и беспечный, - Р. не поленился подняться наверх, чтобы взглянуть на ковровый базар с высоты птичьего полета.
А в номере 636 телевизор "Victor" не уставал показывать цветочные венки на серой волне, живой погребальный ковер в память невинно убиенных...
Каждому ковру хозяин присвоил трехзначный индекс; скажем, ковер номер 475, или 348, или, допустим, 432.
Дождавшись очереди к Юзефу, нужно было по-военному четко и быстро напомнить ему свое анкетное ФИО, назвать избранный ковровый индекс, или два, или три индекса, и по возможности без сдачи отсчитать иены, которые с самурайским лицом принимал вдохновленный задачей Юзеф...
Такое же суровое и беспощадное лицо было у него в спектакле Ташкентского русского драматического театра имени М. Горького, где я играл Гамлета, а он, будучи Лаэртом, врывался во дворец с толпой мятежников и требовал к разделке самого Клавдия, датского короля...
Это был его час, и все пришли на поклон к Юзефу: Макарова и Трофимов, Басилашвили и Аксенов, Малеванная и Волков, Демич и Толубеев; и Ковель с Медведевым пришли, несмотря на больную руку, и Николаева с Лавровым, и Нателла Товстоногова от имени всей семьи, и целиком доморощенное, и все приданное нам руководство - все стали в затылок друг другу, потому что каждый почел за благо оказаться в бессмертном ковровом списке.
А у нашего посольства толпа разъяренных японцев сжигала алый советский флаг...
Если сегодня пройти по нашим квартирам (ковры еще и дарились, и по бедности кое-кем продавались), то почти в каждой из них на стене или на полу можно встретить сентябрьский пестрый лоскут восемьдесят третьего года, тканый японский ковер имени Юзефа Мироненко.
8
Прилетевший в Токио Гога был нездоров: его мучила давнишняя язва.
Каждое утро переводчица Маргарита отправлялась к нему, чтобы на японском языке заказать диетический завтрак и помочь пообщаться с прогорающей фирмой "Сентрал бродкастинг эйдженси".
Глава ее, которого одни источники называют господином Хироси Окава, а другие, оставляя ту же фамилию, именуют Ешитери, что более приятно моему языку и слуху, пытаясь скрыть свои чувства, на самом деле был близок к истерике: трагедия, произошедшая с южно-корейским "Боингом", возмутила японскую публику настолько, что она объявила нам бойкот, и билеты на спектакли почти не продавались. Никто и ничто не могло освободить бедного Ешитери-Хироси от обязанности платить договорные суммы арендованным театрам и суточные всем нам...
Думая о гастролях, Товстоногов был готов, кажется, ко всему, кроме этого...
Еще в апреле он побывал в Японии с разведкой: осматривал сцены, встречался с театральными людьми, давал интервью, планировал встречи, подписывал договор на издание своего двухтомника. Профессор Икуко Сакураи, специалист по советскому театру, в свою очередь, успела слетать в Ленинград, перевести и издать по-японски "Историю лошади" - инсценировку Марка Розовского по "Холстомеру" - со своей статьей о спектакле и Товстоногове. В другой, роскошно изданной к гастролям книге - с твердым корешком, цветными и черно-белыми фотографиями и справками о ведущих артистах - Мастер обращался к будущей публике с прочувствованными словами:
"Дорогие японские зрители! Мы, ленинградский Большой драматический театр, с огромным волнением ждем встречи с вами. Мы везем на ваш строгий и взыскательный суд четыре пьесы четырех великих русских писателей. Мы верим и надеемся, что глубочайшие мысли, моральные и нравственные проблемы, заложенные в этих произведениях, тронут ваши сердца и чувства, воспитанные на великой литературе Японии..."
И вот накануне отплытия происходит другая, без тени театральности, трагедия, жертвенная кровь растворяется в соленой волне, текут неизбежные слезы, и не только Япония, но и весь мир начинает освистывать и проклинать нас как убийц и злодеев. И если посмеешь спросить: "Мы ли в том виноваты?!", получишь в ответ: "Вы!..".
Именно в эти дни и по этому поводу, с легкой руки артиста Р. - тут имеется в виду не персонаж гастрольного романа, а другой, заокеанский артист Р., по имени Рональд Рейган, - нас стали называть "империей зла".
Вокруг машин толпятся возбужденные люди, с открытых платформ на крышах микроавтобусов через мощные усилители истошно кричат полувоенные активисты: мы должны немедленно убираться домой, толпа взрывается дружным воплем, митингующих окружают полицейские с длинными дубинками и стальными щитами, а нас, забившихся в красный автобус, кружным путем везут на концерт в христианскую церковь Шебуйя.
Чтобы дать возможность покаяться?..
Или показать свое искусство?..
Чего от нас ждут в христианской церкви Шебуйя? И что в ней ожидает нас?
Даже Гога этого не знает...
Мы ехали мимо канала с крутым откосом, мимо стоящих вдоль него деревьев, густой травы и кустарника по склонам, мимо белых цапель на берегу...
Крест-накрест висели над водой мостки, и рыба была довольна жизнью так же, как рыбаки, которых не волновала ловля...
Дома косили под старину, а парки забывали о том, что они - японцы. Но мы были посторонними здесь.
Мы ехали мимо огромного города, вдоль старого канала, мимо крутого откоса и веселых цапель, а жизнь воды, домов и деревьев была так же безразлична к нам и нашим спектаклям, как и той кровавой истории, которая случилась над морем...
Ей-богу, я не знал, когда решусь подойти и что теперь скажу Гоге...
И он, и мы были рады, и встретились, как родные, и после щедрых объятий и бодрых поцелуев начался концерт. Не в храме, а в зале при нем, где все-таки собрались местные энтузиасты.
Господи, прости нам грехи наши, вольные и невольные!
Товстоногов поговорил о Станиславском и методе физических действий, Лебедев показал бессловесный этюд о рыболове, который мы знали наизусть, потому что он всегда его показывал... А мы стали играть отрывки из всех четырех спектаклей и, сидя за кулисами, ждать общего поклона.
Гога делился новостями, которые не застали нас на родине. Больше всего его поразило последнее интервью Любимова.
- Такого еще не было, - возбужденно говорил он, - Любимов сказал: "Мне 65 лет, я строю театр, а у меня один за другим снимают три спектакля!.. Сколько еще я должен терпеть?!. Так больше продолжаться не может, и мириться с этим нельзя!..". Все в таком тоне!.. Как ультиматум!..
Мне казалось, что Товстоногов полон сочувствия к Любимову и целиком на его стороне...
Его слушали почтительно и молчаливо. Лавров, к которому больше других апеллировал Гога, тоже молчал.
И Мастер несколько переменил тон.
- Конечно, Любимов зашел слишком далеко, - рассудительно сказал он. - Он мог жить у жены в Венгрии, там у нее свой дом, и ездить, ставить...
Он опять взглянул на Кирилла, но тот снова промолчал. И тогда Гога не очень уверенно добавил:
- Я уже не говорю о политической стороне...
Читателю, не пережившему наших времен, следует понять, что если кто и молчал в ответ на Гогин рассказ о последнем интервью Любимова, то не обязательно от одного того, что осуждал диссидентские выпады Юрия Петровича или не разделял Гогиного сочувствия опальному режиссеру. Просто вокруг были свидетели - наши, не совсем наши и вовсе не наши, и молчание в таких случаях стоило дороже японской валюты. А ведь у нас была целая группа сопровождения. Не говоря уже о "своих".
Кстати, "своих" знали практически все. И "свои" знали, что их знают. Но это никого не смущало. Это входило в предлагаемые обстоятельства. Товстоногов, как многие умные люди, думал, что "чужих" и "своих" можно хорошо использовать в качестве канала информации. Или, вернее, дезинформации. Поэтому Гога и сказал такую маскировочную фразу, якобы с точки зрения тех, кому интервью Любимова по всем приметам не должно было понравиться: "Я уже не говорю о политической стороне...".
Однажды за границей он отвел в сторону Эдика Кочергина и назвал ему поименно всех, кого, по его информации, следовало остерегаться.
А Эдик Кочергин как-то по дружбе назвал их мне.
Но я и не подумаю называть имена. И не потому, что не испытываю доверия к читателю, а потому, что это будет уже совсем другой жанр, и никому от этого легче не станет. Тем более теперь...
И все-таки, хорошо зная "своих", Гога иногда забывался, потому что ему были необходимы близкие люди и единомышленники. В отличие от Любимова у него не было жены в Венгрии. Впрочем, в Союзе тоже. Долгие годы жизни настоящей жены у него не было...