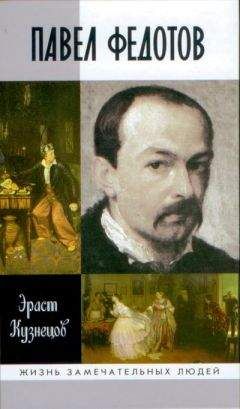Михаил Авдеев - Тетрадь из записок Тамарина
Я дал ей высказаться и потом продолжал:
— Вы меня не поняли: я был бы низок, если бы упрекнул вас доказательством вашей любви.
— Я вас слушаю, — сказала она.
Я продолжал:
— Мы встретились здесь, но уже не теми, какими расстались. Наша ребяческая, немного смешная, но тем не менее прекрасная любовь была оставлена в темных аллеях Неразлучного. Здесь нас ожидал свет, приличия. Здесь наша любовь, как и всякая любовь в свете, стала игрой самолюбия; и потому, мудрено ли, что здесь вместо наивной Вареньки и ее интересного поклонника, сошлись просто Варвара Александровна с Сергеем Петровичем! И любили мы, как любят в свете, — беспокойно, осторожно, часто подумывая, «что об этом скажут». И вот однажды вам показалось, что я не то чтобы мало любил вас, а мало показываю эту любовь. И не то чтобы вам самим это показалось, а вам намекнула добрая подруга. Ваше самолюбие было оскорблено — это понятно. Вам должно было показать самой более холодности, и мы были бы квиты. Но нет! Вы захотели большего торжества: вы захотели показать, что не дорожите мной, и по совету этой же подруги да из участия к одному страдальцу, который не боится, что в свете будут говорить про его любовь, вы мне дали соперника, да еще показали ему преимущество. Скажу вам откровенно, я человек самолюбивый и ужасно не люблю счастливых соперников, а особенно такого рода, с которыми и в борьбу вступать не лестно. Тогда, сознаюсь, я испугался и уступил ему поле без битвы, а вы, чтобы довершить его торжество, наградили его своей рукой.
Варенька молчала, но была в сильном волнении. Я сам начинал чувствовать какое-то беспокойство, но продолжал:
— Теперь все, что было общего между нами, пережито. Вы захотели резко отделиться от прошлого, и я безропотно повиновался вам. Я вас не упрекал, я вам не сопротивлялся; сходимся мы теперь как чужие, и встречи наши холодны, холодны, как ваши чувства ко мне.
Я посмотрел на Вареньку: она вздохнула.
— Но как вы хотите, чтобы иногда, сидя вдвоем, в той комнате, на том самом месте, где были другие встречи, высказывались иные чувства, — как вы хотите, чтобы прошлое не зашевелилось в душе и невольно не отразилось на нас. А вы говорите, что я преследую вас. Вы спрашиваете, кто мне дал право вас мучить, как я сохранил мое непрошенное влияние? Неужели в самом деле я и всегда я буду во всем виноват? Неужели во мне нет человеческого чувства и я вечно играю и собой, и другими! Спросите самое себя и судите сами!..
Желчь волновалась во мне, и последний упрек был высказан мной от души. Варенька задумалась, воспоминания, которые я пробудил в ней, казалось, произвели на нее сильное впечатление: она сделалась мягче, доступнее и, немного помолчав, сказала:
— Может быть, я поторопилась осудить вас, может быть, вы не виноваты. Действительно, нельзя так скоро оторваться от прошлого; можно холодно встречаться; можно из близких сделаться чужими, но память о прошлом, все, что крепко привилось к душе, не скоро из нее изглаживается; я это знаю по себе, — сказала она, вздохнув. — Видите, я с вами откровенна, — продолжала она, — я сознаюсь, что мне тяжело, мне трудно расстаться с памятью о том, что было мило. Но жребий брошен. Мы не можем, не должны любить друг друга. Так расстанемся друзьями… Мы останемся ими, Тамарин, не правда ли? Вы единственный человек, которого я любила… и вы будете моим лучшим другом!
Варенька смотрела на меня так добро, так приветливо! В ее взгляде было еще более просьбы, чем в словах. Она создала себе отрадную мечту и прилепилась к ней. Может быть, со времени нашего разрыва это была ее первая сладкая мечта! Но она была не в моем духе.
— Вашим лучшим другом после мужа! — докончил я.
Варенька опечалилась и затаила грустный вздох.
— По крайней мере вы исполните другую просьбу, — продолжала она. — Вы добры, вы благородны… если в вас осталось сколько-нибудь прежних чувств ко мне, то именем этого прошлого прошу вас, помогите мне забыть его. Видите ли, я говорю вам то, что бы должна была скрывать от вас, но я уверена, что вы не употребите во зло моей откровенности. И вам это будет так легко, Тамарин. Я вижу теперь: я вам никогда не была очень дорога. К тому же вы так хорошо владеете собой, вы так легко от всего отрываетесь. Зачем вам несколько моих лишних слез, несколько поздних сожалений?
Мне казалось, я слышал мою прежнюю Вареньку: это была ее непритворная, простодушная речь, ее грустные и полные детского доверия слова. Мне было жаль ее, мне стало жаль и прошлого.
— Видно, я вас люблю еще, — отвечал я, — потому что не могу отказать в вашей просьбе. Но теперь, в нашу, может быть, последнюю откровенную беседу, я должен вам сказать несколько слов о себе: мне бы не хотелось расстаться с вами, оставив в вас те убеждения, которые вы сейчас высказали. Вы говорите, что я не очень дорожу вами, что я легко от всего отрываюсь. Почему вы знаете это, отчего вы это думаете? Потому что я не тешу моих приятелей рассказами о своих печалях, до которых им нет дела; что я не нуждаюсь в их утешениях, которые нисколько мне не помогут, и не возбуждаю сожалений, которые ненавижу? Потому что на моем лице нельзя прочесть моих дум: потому что я смеюсь, когда, может быть, грусть или досада шевелятся в душе? Странно, что вы до сих пор так мало узнали меня! И скажу вам больше: мне грустно, что вы предполагаете во мне одно дурное! Вы меня считаете эгоистом, — и не ошиблись; но знаете ли, что в вас более эгоизма, чем во мне? Вы теперь думаете только о себе. Вы хотите, чтобы только вам было легко примириться с новым положением. Не правда ли? Но вы не подумали, как, может быть, грустно и больно отрываться от последней мечты, от последней иллюзии!
Вы не подумали, что трудно примиряться с душевным холодом тому, кто, может быть, в последний раз собрал весь бедный остаток чувств и доверил его вам, для того чтобы еще раз обмануться. Тяжело утрачивать первую веру в счастье, еще тяжелее — последнюю!
Я замолчал, потому что был сильно взволнован; я сам расчувствовался от своей сентиментальной выходки. Мне было грустно. Я взглянул на Вареньку: она была бледна, слезы выступили на ее больших темно-голубых глазах, но, казалось, какое-то тайное недоверие остановило их, и, не смея упасть, эти слезы повисли на длинных ресницах.
— Боже мой, что бы я дала, чтобы знать правду! — сказала она.
А трудно было узнать эту правду: я сам не знал, любил ли я Вареньку.
— Скажите мне, наконец, научите меня, что мне делать! — сказала Варенька, болезненно сжимая свои руки; и в ее дрожащем голосе, в ее страдальческом лице, в ее беспокойном взгляде выражалась страшная борьба недоверия и надежды, сомнения и решимости.
Я видел эту борьбу, и она отразилась во мне, она подняла со дна моей души группу смутных и противоположных чувств, между которыми я нескоро мог освоиться. Первое из этих чувств было за Вареньку: я хотел вполне примириться с нею, смыть своею любовью все огорчения, которые нанес ей в ее любви, освежить свое больное, измученное противоречиями сердце.
После долгих и скучных лет тяжелого одиночества робкой и себялюбивой души, которая вечно и беспокойно ищет созвучий, но, вызвав их, из пустой боязни смешного, как затронутый еж, тотчас щетинится и прячется в самое себя, — после этих невыносимо долгих и страшно бесцветных лет это был первый благородный порыв души моей… Может быть, в этом порыве отчасти было и желание посмеяться над Имшиным, который, кажется, думает, что он в состоянии бороться со мной, может, также и другое желание — успокоить мое ненасытное самолюбие, оскорбленное последней холодностью Вареньки. Я не сознавал тогда этих последних мыслей, но готов допустить их тайными двигателями, как охотно допускаю в себе все дурное. Как бы то ни было, в первую минуту я любил и готов был любить Вареньку; и что-то светлое и отрадное было в этой минуте! Второе чувство — это вечно противоречащее и вечно живущее во мне чувство, было мгновенно, но сильно. Оно мне живо развернуло скучную картину наших беспокойных встреч, длинный ряд толков и пересудов, которые могла бы возродить разошедшаяся свадьба. Оно мне сделало неизбежный вопрос: чем все это кончится? С невольным сожалением, как перед долгой разлукой с неверным свиданием, посмотрел я на расстроенную, беспокойно глядящую на меня Вареньку, и на вопрос ее, что ей делать, затаив тяжелый вздох, отвечал:
— Выходить замуж за Имшина.
И мои слова произвели на меня магическое действие, когда я вспомнил об Имшине, как о женихе Вареньки: мне показалось, что сожалеть о ней значит ему завидовать. Гордость моя возмутилась, и холод сжал зашевелившее сердце.
А Варенька еще несколько мгновений продолжала смотреть на меня своими влажными глазами, потом провела но ним рукою, как будто пробуждаясь от сна, и когда приподняла потом свою хорошенькую, но бледную головку, то глаза ее были уже сухи и холодное лицо спокойно.