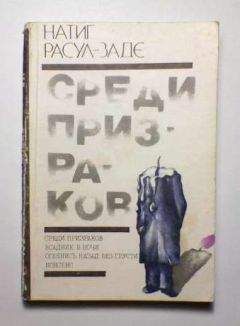Вадим Александровский - Записки лагерного врача
Наша санчасть и еще один барак стояли на пригорке, а все остальные располагались в низине. Из окон нам был прекрасно виден карантинный барак, неярко освещенный тусклыми лампочками на столбах.
И вот по лагерю прокатился резкий свист — сигнал атаки. Из всех бараков хлынула толпа и облепила карантинный забор. Раздались глухие удары, треск, грохот, и забор стал рушиться. Толпа хлынула внутрь, сметая и круша все на своем пути. В воздухе мелькали палки, доски, дубины. Конечно, у той и другой стороны были и ножи, и кастеты, и металлические штыри. Над лагерем повис жуткий вой. С вышек послышались сначала одиночные выстрелы, а потом и автоматные очереди. Стреляли, правда, в воздух и поверх голов. К месту побоища побежали санитары с носилками, а я ждал раненых.
Они стали поступать — кто на носилках, кто своим ходом, кто с помощью других. Разбитые лица, рваные, колотые и резаные раны рук, ног, туловища, висящие плетью руки, залитые кровью глаза.
Одновременно происходили сортировка и оказание помощи. Я взял на себя самое сложное: зашивал раны, выправлял отломки, выводил из шока. Фельдшера накладывали шины, повязки, делали уколы. Санитары разводили и разносили раненых по палатам и по углам, укладывая их на щиты, а то и прямо на пол. Пол и мебель были залиты кровью. Все было так, как на полковом медицинском пункте во время боя.
А там, снаружи, весь блатной этап бежал к воротам, спасаясь от преследователей. Ворота открыли, выпустили наружу, окружили там конвоем а позже куда-то увезли. Под конец боя принесли человека с переломом основания черепа.
Постепенно все стихало. Помощь была оказана, раненые размещены, санчасть вымыта. А по лагерю метались начальники и надзиратели в полной панике и растерянности. Впрочем, работяги, сделав свое дело, рассеялись по баракам.
О побоище говорили только разрушенный забор да мои раненые…
Ночью приехало начальство отделения: Кубраков, Лучаков и другие. Зашли и в санчасть. Молча постояли, посмотрели на раненых, размещенных на щитах и на полу. Потом в амбулатории Кубраков матерно кричал на Лучакова и Лукашенко: почему нет коек, почему санчасть не до конца обустроена? А те, вытянувшись в струнку, глупо хлопали глазами.
Днем ко мне заявились работяги и сказали, что раненых блатарей они в санчасти не тронут, но стоит им выйти за порог, их тут же прикончат. "Заяви об этом, доктор, начальству". Что я и сделал.
В дальнейшем по мере излечения раненых я сообщал об этом начальнику лагпункта, и тогда в сопровождении надзирателя человека выводили за зону. По дороге никого не убили.
Ну, а человек с переломом черепа, его звали Володя Кузьменко, законный вор, суток через трое умер.
Это было четвертое лагерное убийство, которое я увидел.
А зачинщиков побоища как-то обнаружили и отправили вскоре — человек пять — в тюрьму отбывать срок.
Лагпункт очистился от блатной скверны и вскоре пополнился работягами с других точек.
Кальчик же, принимавший активное участие в побоище, отделался 10 сутками кандея, как и некоторые другие.
Вскоре в санчасть доставили койки, матрацы, шкафы, столы, стулья, инструменты и прочее. Лучше поздно, чем никогда.
В декабре объявили о казни Берии и его подручных бандитов. Следует сказать, что еще летом, когда Берию арестовали, на следующую ночь собаки, бегавшие снаружи вокруг зоны на проволоке, подняли ужасающий вой и выли всю ночь. То же самое произошло и на сей раз. Собаки выли страшным хором от зари до зари.
Никто даже из старых зеков не мог припомнить ничего подобного.
Режим в лагере постепенно слабел. Начальство на все стало смотреть сквозь пальцы. Даже в карцер сажали редко. Впрочем, никаких особо грубых нарушений и не было, так как публика на лагпункте осталась вполне приличная. 25/XII прибалты празднично и торжественно отметили Рождество, с елками в бараках, со спиртными напитками и обильным столом. Надзиратель только заглянул в барак, махнул рукой и ушел. Его догнали, вручили стакан водки, и он с удовольствием его выпил, попросив «ребят» не шуметь особо.
Новый год наша компания встречала в санчасти, ничуть ни от кого не скрываясь. Вначале устроили спиритический сеанс, долго разговаривали со Сталиным, а потом уселись за длинный стол, выслушали добрые пожелания Ворошилова и подняли тост за свободу. Заходили надзиратели, отечески предупреждали о порядке и спокойствии, выпивали свою дозу и убирались восвояси. Забрел на огонек и дежурный по лагерю майор Хохулин, новый человек, за какие-то провинности сосланный из боевой части служить в лагерь. Он держался с заключенными совершенно запанибрата.
У нас за столом он насиделся до того, что потом его пришлось вести под руки к вахте.
Происходила какая-то непонятная либерализация, заигрывание с заключенными, то ли официальное, то ли не совсем.
А люди продолжали освобождаться поодиночке. Этот поток еще не принял массового характера, но необратимая тенденция просматривалась явно.
Был у нас на лагпункте Иван Иванович Воробьев, бывший фронтовой офицер, раненный в свое время в грудь немецкой пулей, причем пуля пробила комсомольский билет, лежавший в грудном кармане. Посадили его позже за «язык», по статье 58–10. Иван Иванович никаких жалоб не писал, и я предложил ему как-то написать в Верховный суд — чем черт не шутит. Поскольку сам он не был любителем писанины, написал за него жалобу я, сделав основной упор на залитый кровью комсомольский билет.
И буквально через месяц пришла полная реабилитация. А на мою очередную жалобу пришел очередной отказ. Тогда я с горя погрузился с головой в отделку санчасти своими силами и силами добровольцев. За короткое время помещения оштукатурили, выкрасили, вычистили, доделали все недоделанное и пустили полностью весь медицинский блок в настоящую работу.
Летом на лагпункте было два побега. При первом через подкоп бежал бытовик, но тут же был пойман, избит и брошен для назидания на вахте, чтобы все могли любоваться. Второй побег из лесного оцепления совершили два финских офицера, ушедшие "с концами". Гораздо позже, уже на воле, я узнал, что они благополучно перешли финскую границу и финны их не выдали. И в связи с этим почему-то именно в санчасти устроили грандиозный «шмон», хотя мы ни сном, ни духом ничего об этих побегах не знали и не имели к ним никакого отношения. Переворошили буквально все, взламывали и поднимали полы, искали подкоп, но, конечно, ничего не нашли.
К осени пошли зачеты и мне. Я подсчитал, что, если так пойдет и дальше, то в начале 1955 года у меня уже будет отбыто 2/3 срока и я получу право на условно-досрочное освобождение. В это же время я получил пропуск, то есть право бесконвойного хождения, чем и стал широко пользоваться, снова почувствовав себя в какой-то степени человеком. Часто ездил в Кодино по делам и без всяких дел, чтобы пообщаться с людьми. Иногда просто уходил подальше в лес или на озеро, чтобы побыть одному. Снова написал пространную и аргументированную жалобу главному военному прокурору и одновременно с ней ради шутки просьбу о помиловании Климу Ворошилову. Стал ждать ответов.
В эти же дни, отбыв полностью сроки, освободились мой друг Юра Николаев и фельдшер Саша Новиков. Позже, уже на воле, они были полностью реабилитированы.
Работа моя шла своим чередом, без каких-либо эксцессов. Все было более или менее спокойно. Ходило опять же много разных слухов, питаемых сведениями с воли, а также и прессой.
Большое впечатление на лагерную интеллигенцию произвела статья Померанцева в "Новом мире" "Об искренности в литературе". Повеяло свежим ветром вольности. Там и здесь стал появляться в печати термин "культ личности", правда, еще без упоминания имени Сталина. Критика в адрес МГБ воспринималась в среде 58-й статьи как предвестник скорого и массового освобождения, тем более что люди продолжали поодиночке освобождаться из лагеря.
В ноябре 1954 года нелепо погиб Леня Кальчик. Он стоял на подножке медленно двигавшегося грузовика и что-то показывал шоферу. Поскользнувшись от толчка, упал под машину и был раздавлен задним колесом. Умер тут же, на месте.
Кальчика похоронили на Кодинском кладбище, а через месяц приехали родители, забрали тело и перевезли в Ленинград. Отец Лени сообщил мне, что его дело опротестовано и скоро последует реабилитация.
В эти же дни скончался на головном лагпункте и доктор Христенко. У него возник тот же эпилептиформный приступ, врача рядом не оказалось, и он во время приступа умер. А незадолго до этого из лагеря освободилась его дочь и уехала в Кодино.
Через десять дней после смерти Христенко пришла и ему бумага с полной реабилитацией и освобождением.
Где-то в декабре 1954 года почти одновременно пришли и мне ответы. Из Главной военной прокуратуры сообщали, что приговор по моему делу опротестован главным военным прокурором и дело в ближайшее время будет передано в Военную коллегию Верховного суда.