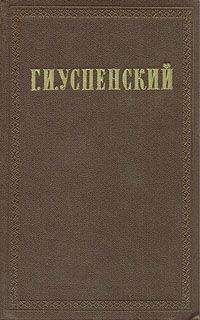Глеб Успенский - Волей-неволей
Гораздо труднее будет для меня успокоить читателя собственно относительно меня самого, моего гнусного и подлого поступка. Что ж, в самом деле, я-то, Тяпушкин, за фигура такая? Человек я или зверь? А сердце мое: точно ли оно самоотверженное или, напротив, каменное, железное, бесчувственное? "Всечеловеческое" оно или "всеволчье"? Эти вопросы давно терзали и мучили меня, не только по отношению к себе лично, а и вообще относительно русского человека. Ренан, в надгробной речи Тургеневу, характеризовал его сердце как всечеловеческое, лишенное "узости эгоизма". И я об этом думал не раз, но меня всегда смущал факт. "Положим, — думал я, — я человек "всечеловеческий"… ну, а как же это я своего собственного-то ребенка?.." Дело оказывалось, да и сейчас оказывается, как видите, весьма сложным; волей-неволей я должен вдаться в некоторые подробности моей, тяпушкинской, биографии.
2Прежде всего необходимо ответить на вопрос, который, вероятно, предложит мне читатель, прочитав последние строки предыдущей главы: "на каком основании я, Тяпушкин, человек неопределенного положения, даю себе право соваться с разговорами о свойствах моего, тяпушкинского сердца в то время, когда речь идет о свойствах сердца такого человека, как Тургенев, и имею еще дерзость прицеплять это разночинное сердце даже к общерусскому сердцу, к сердцу общеславянскому, о котором говорил Ренан?" На этот вопрос я отвечу, во-первых, то, что именно только полное, как мне кажется, родство моего, тяпушкинского сердца с сердцем всероссийским (не скажу всеславянским — не знаю), а в том числе и тургеневским, и дало мне право, даже как бы обязало разговаривать о подноготной собственного моего сердца; и, во-вторых, то, что родство это полное и неразрывное — доказывается весьма просто тем, что все мы, от последнего сторожа до Тургенева и далее, живем и воспитываемся решительно одними и теми же условиями русской жизни. Все мы видим одну и ту же природу и если не одинаково воспринимаем, то воспринимаем одинаковые впечатления и природы, и людей, и семейных, и общественных отношений; кроме того, находясь в пределах России, все мы не можем миновать (за исключением небольшой группы высшей аристократии) обязательного для всех нас государственного воспитания и образования; тенденция сельского одноклассного училища и тенденция университета — одна и та же и т. д. Стало быть, разница может быть только в возможностях ослабить влияния воспитывающих впечатлений, или, напротив, в необходимости принимать их не иначе, как в самом голом, подлинном виде; степени восприятия их могут изменяться сообразно положению человека, но с сущностью впечатлений не может не быть знакома даже муха на всем пространстве России, не только человек. Сущность для всех одинакова.
В этом отношении, перебирая в своей памяти все те влияния, которые сделали мое, тяпушкинское сердце вопросительным знаком, я нахожу, что во всех этих влияниях не было ничего такого, чего бы не испытал и не пережил всякий россиянин; только мне, Тяпушкину, пришлось пережить эти влияния и принять их на свою шкуру и душу без послабления, без снисхождения, без каких бы то ни было мягких подстилок, искусственных средств, вроде возможности воспитать и вырастить себя вдали от жесткой действительности, в тиши уютного, теплого, обеспеченного дома, под руководством выписанных из-за границы учителей. Но и такой русский человек, который мог бы вырастить себя вне необходимости знать и принимать в расчет "подлинные" условия русской жизни, невольно должен знакомиться с этими подлинными условиями жизни, раз только он выйдет из своего обеспеченного уюта на улицу; воспитав себя, положим, на произведениях европейских мыслителей и проникнувшись уважением к собственному человеческому достоинству, привыкнув уважать в себе "человека", ценить свое "я", человек этот, однакож, никоим образом не может считать себя обеспеченным от подлиннейшего знакомства с постановкой вопроса о человеческом достоинстве у нас, на Руси, на улице, так как первый же визит в гражданскую палату, для заключения купчей крепости, первый же визит в почтамт, для отправки письма, легко и даже неминуемо натолкнет его на "нашу" постановку вопроса, докажет, что если он не даст двугривенного "Михалычу", который снимает шубу, так и человеческое достоинство будет попрано; Михалыч не укажет "настоящего человечка", и купчую не заключат, когда следует; а даст — так тотчас же и во всех отношениях окажутся изобильнейшие права. Заплатив таким образом за право проявления своего человеческого достоинства двадцать копеек серебром, человек, мнивший себя устраненным от этой грязи, должен знать, что не Дидероты и Вольтеры могут за него предстательствовать в обществе ему подобных, а лишь двадцать копеек серебром… А это большая разница!
Так вот эту-то "подлинность" условий, "подлинность" русской жизни я, Тяпушкин, принял даже без возможности внести двадцатикопеечное вознаграждение в видах снисхождения. Много бы можно было говорить об этой снисходительности ко мне жизни, но я не буду путаться в мелочах и запутывать мелочами главное, а прямо обращусь к главному, и главное это, по моему мнению, состоит именно в том, чтобы показать, насколько знакомые всякому русскому условия подлинной русской жизни, во всей своей совокупности, способствовали во мне, русском ребенке, потом юноше, потом взрослом человеке, развитию того самого человеческого достоинства, о котором только что говорено, и насколько сознание этого "достоинства" могло разработать, развить, культивировать мое, лично мне принадлежащее "эгоистическое" сердце.
Отец мой, сельский священник, овдовел очень рано и, оставшись один с ребенком на руках (этот ребенок был я) отказался от службы в сельской церкви, перебрался в город и здесь получил тяжелое, почти подвижническое назначение: его определили священником при острожной церкви. Благодаря этому назначению я, постоянно находившийся при отце, с десяти — одиннадцати лет совершенно ясно мог видеть, что жизнь — это неволя, это безличное подчинение чему-то неведомому я непременно грубому, жестокому, и привыкал даже не сомневаться, если не в справедливости, то по крайней мере в неотвратимой неизбежности этого вывода. Чего стоил один вид из окон нашего пустынного, бессемейного трехоконного домика, назначенного от администрации под квартиру острожного священника, вид, на который я смотрел ежедневно целые годы… Домишко, как и острог, стояли за городом, близ кладбища, за городской заставой. Прямо перед одним из крайних окон нашего домика, окон, едва поднимавшихся от земли, — от той же земли поднималась кирпичная белая, рябая, нештукатуренная стена острога; она перерезывала наше окно снизу вверх, застила свет и уходила высоко вверх, налегая на весь наш домишко темным, никогда и никуда не скрывавшимся слоем черной и вечной тени. Даже из другого, не загражденного стеною окошка, виден был такой же рябой и такой же страшный своею плоскою невыразительностью фасад острога, страшный, как страшно рябое лицо человека, на котором оспа изгладила выражение. На этом рябом и страшном лице острога, большом и широком, глядели всего только три черных, как уголь, и маленьких оконца с железными решетками, а под ними черные, ржавые, скрипучие и лязгающие цепями острожные ворота, солдаты на часах, гауптвахта, на которой по временам трещит барабан, заставляя всех вздрагивать и пугаться, или кричит не своим голосом офицер. В то время иначе и не разговаривали с подчиненными, как не своим голосом. В дополнение к этому "виду" необходимо прибавить, что из тех же двух не загороженных стеною острога окошек виднелось прямо кладбище, вал, а за валом масса крестов, каменных памятников с плачущими фигурами, а направо от кладбища длинный желтый забор, которым был огорожен дремучий, темный сад сумасшедшего дома. С кладбища доносились плач и стоны; в "сумасшедшем саду", как выражались наши соседи, бродили какие-то тени людей; изредка их колпаки, надвинутые на бессмысленные лица, высовывались из-за желтого забора; нередко в глубине этого сада слышались бешеные крики, вопль и шум свалки, после которой между соседями шел такой разговор: "Кто-то, вишь, хотел убежать, вырвался… ударил ножом… погнались, догнали, повалили, избили, связали, поволокли"… Очень часто к этому рассказу прибавлялись и другие сведения, которые, однако, всегда были неприятны: "поволокли и — четыре ребра переломили… Поволокли — и голову проломили… скончался!" А в остроге? И в остроге часто бывало, что кто-то кого-то "пхнул ножом", и отца моего звали по этому случаю со святыми дарами. Но большею частью было мертвенно тихо: входили туда и выходили оттуда целые толпы арестантов, скованных по рукам и ногам, входили и уходили, молча гремя цепями, молча работали, молча молились в церкви, так что фигура безмолвного скованного человека, не будучи для меня понятной, стала, однако, обыкновенной, и вместе с этим обыкновенными, нормальными сделались и тоска, и безнадежность, и бессилие борьбы, которые неразлучно сопутствовали этой серой, с желтым лицом, в железо закованной фигуре. Иногда только тоска, уже обязательная для моего сердца, переходила в страх, холодный и ужасающий.