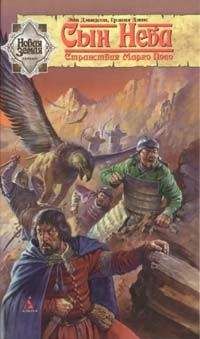Сигизмунд Кржижановский - Воспоминания о будущем
– Жужелев. Пров Жужелев. Одежонка на вас, вижу я… просто сказать, в фьюить вы одеты. Ну, и после, нельзя голове без приклону. Скрипка, и та, скажем, в чехле живет. Идем.
И прежде чем солнце перекатилось через зенит, Штерер водворился в некое подобие квартиры. Деятельный Жужелев, оказавшийся дворником одного из домовладений на Крутицком валу, недолго размышлял над изысканием площади. Под лестницей, прикрытая косой линией ступенек, втреуголивалась крохотная безоконная каморка; под висячим замком ее складывались дрова. Восемь пальцев Жужелева выселили поленья и вселили Штерера. На место березовых обрубков, забивавших треугольник, вдоль его основания выстлался штопаный сенник, с гипотенузы свисла близорукая лампа, а к стыку катетов стал замстолом коротконогий табурет.
– Вот вам и чехол, – ухмыльнулся Жужелев, разглаживая усы и улыбку встопорщенным трехперстием, – тут захоти разжиреть, стены не пустят.
После этого оставалось водворить и имя жильца в шнуровую книгу прописок. В домкоме сперва заперечили, потом притиснули печать.
Штерер, утомленный после долгого пути, вытянулся на сеннике и сквозь наплывающую диафрагму сна слушал подошвы, перебирающие ступеньки над ее головой взбегающими и сбегающими пассажами и перебросами арпеджий.
Среди десятков пар подошв, отстукивавших по каменной клавиатуре, незасыпающий слух мог бы выделить резкое стаккато человека, взбежавшего к себе на верхний этаж, – это был Иосиф Стынский, встреча которого со Штерером оказалась, как это будет видно из последующего, знаменательной для обоих.
X
Перо литератора Иосифа Стынского отличалось на редкость непоседливым характером: то оно суетилось внутри короткострочий фельетона, то увязало в медленных смыслах и периодах экономико-социологического трактата; окунувшись в чернильницу, оно никогда не высыхало вместе с несостоявшейся фразой; знало искусство скользить, но не поскользнуться; умело росчеркнуться перед каждым новым фактом и идеей. Два серых глаза Стынского, врезанные асимметрично, с капризным узким раскосом, жадно подставляли себя под тени и свет; сегодня был спрос на свет, завтра тени подымались в цене, и Стынский, сдвинув тему на полутон, переводил ее из мажора в минор. На книжной полке его рядом с амюзантными желтокожими парижскими книжечками стоял сухопарый том Гуссерля и Марксова «Нищета философии». Короче говоря, Стынский знал, как обращаться с алфавитом. По признанию его благо– и зложелателей, он обладал несомненным литературным дарованием и мог бы, пожалуй, если бы… но уже года два тому перо его, зацепившись за это досадливое бы, очутилось за чертой перворанговой витринной литературы, потеряло доступ в пухлый журнал и персональную полистную ставку. Разгонистое, оно, как это ни странно, все-таки поскользнулось на, казалось бы, невинной статье, озаглавленной так: «Революционный молот и аукционный молоток». В статье, написанной по заказу редакции, доказывалось, что, как только отстучит дробящий стекло и кующий металл молот революции, начинается дробный и деловитый перестук аукционных молоточков, по мелким мелочам добивающих старый, в рамы картин, под крышами резных ящичков и армуаров прячущийся, старый, вышибленный из всех своих уютов мир. Редакционный портфель оказал гостеприимство статье о двух молотах, но волею случая она залежалась в нем несколько дольше обычного; напечатанная с запозданием, статья сбилась с ноги, попала не в ту актуальность, и после этого автору никак не удавалось нагнать такт. Деквалификация ведет, как известно, к деквантификации доходов. В конце концов Стынскому пришлось питаться «Великими людьми» – так называлась дешевая серия листовок, расправлявшихся с любым гением десятком-другим страниц. Стынский быстро набил руку, и «великие» так и сыпались из-под его пера, превращаясь в дензнаки. Автор серии не переоценивал своей работы. «Живого тут только и есть, – говорил он, – что живая нитка, на которую все это сшито». Но в желчевые минуты Стынский выражался много резче: «Черт возьми, опостылели мне, чтоб их мухами засидело, эти великие мертвецы; ну хоть бы на одного живого набрести; подвеличивающихся видимо-невидимо, а великих, видимо, не увидим». И он снова принимался за очередную листовку, обычно начинавшуюся так: «Это было в ту эпоху, когда торговый капитал…», или: «Капитал, которому было тесно на континенте Европы, рано или поздно должен был открыть Америку. Венецианец же Ко…», или: «Сократ, сын повивальной бабки, принадлежавший к мелкобуржуазной интеллигенции древних Афин…».
Прежде чем встретиться с подлестничным жильцом, обитатель верхнего этажа совершенно случайно наткнулся на запись в домовой книге, задержавшую его взгляд сначала странностью почерка, потом и иной странностью: вправо от остробуквого «Штерер Максимилиан» тянулось по графам: 34 – холост; в графе «Откуда прибыл» значилось – из Будущего. Правда, чья-то старательная, но неумелая рука, которую Стынский тотчас же, впрочем, разгадал, вытянула строчное «б» в пропись и прикорючило к нему слева серповидное «с». Получалось: из с. Будущего. Стынский, который брал шнурованную книгу для прописки временно гостившего приятеля из провинции, возвращая ее Жужелеву, вдел на вопросительный знак и осторожно, чтобы и не зарябить глади, забросил слова:
– Скажите, Пров, в какой это губернии село Будущее, что-то я не припомню?..
Глаза Жужелева смотрели сквозь ухмылку:
– Может, оно и не село, а иначе как, но так уж для порядку, чтоб в милиции не придрались. Ну, и если человек, от така ли, от сяка ли, только при одном уме остался, незачем его выспросами тревожить: то были дрова, а то человек, дрова вороши, а человека…
Но Стынский, получивший комментарий только к одной букве странной записи, решил разгадать и остальные семь знаков. В тот же день и на следующее утро, проходя подъезд, он оглядывал сомкнутые, точно половины косого складня, створы подлестничной двери. Они были неподвижны и за их крашенными нажелто досками – ни единого звука. К вечеру, когда, как говаривал Стынский, волки должны пользоваться тем, что их не отличают от собак, он имел обыкновение отправляться по сердцевым делам (опять-таки выражение Стынского). С веселым переливом, сосвистывающимся с губ, и цветком, качающимся в петлице, скользил он по поручню лестницы вниз, когда вдруг в треугольном подлестничье зашумело. Стынский, перегнувшись через перила, увидел: косой складень распахнул створы и изнутри, точно под толчками пружины, выдвинулась и распрямилась, как-то вдевшись на вертикаль, высокая, в широком раскрылье плеч фигура. Литератор наклонился еще ниже, стараясь прорвать глазами сумерки, и скользкий стебель цветка, наклонившегося тоже, выпрыгнув из петлицы, бросился в пролет:
– Виноват. Не нагибайтесь, я сам.
Но человек из складня и не собирался нагибаться. Первое, что услышал Стынский, сбежав вниз, это хруст перелюбопытившего его цветка, на который он сам в полутьме и торопи наступил. Лицо нового вселенца было в аршине от глаз; оно так поразило Стынского, что рука его не сразу нашла путь к шляпе, а язык к словам:
– Очень рад встрече. Иосиф Стынский, Пс. Неясно? Пс. – это наша «известняковская» аббревиатура «писателя». Вместо: гражданин писатель Тыльняк или там досточтимый метр Силинский – просто «эй, пс», – и идут, представьте себе, пс. за пс. сюда вот вкруг пролета: по четвергам у меня весь литературный «известняк» (известь тут ни при чем). Вы, я вижу, давненько не были в Москве; что, изменилась старуха, а?
– Да, с 1957-го. Если хотите, изменилась: да.
Ответ был так странен, что Стынский откачнулся на шаг:
– Извольте, но ведь у нас сейчас только…
После этого разговор продолжался, не покидая ступенек, еще минут двадцать. Последней фразой Стынского, просительно вжавшегося ладонью в ладонь Штереру, было:
– Следующий четверг жду. Нет. Нет. Непременно. Ведь это опрокидывает мозг, черт возьми. Я сам приду за вами, и «неволей иль волей», х-ха. То-то накинутся на вас пс. – ы!
Придя на свидание, взъерошенный Стынский на «я думала, вы уже не…» не ответил ни слова. «Предмет», бывший на этот раз желтоволосой поэтессой-беспредметницей, как и подобает предмету страсти, задолго обдумал туалет, реплики, сощур глаз и поцелуи. Но все пошло куда-то мимо поцелуев, и глаза пришлось не щурить, а, скорее, расширять. Стынский, фамилия которого не вызывала никогда обидных для него ассоциаций у женщин, на этот раз как-то взволнованно отсутствовал. Держа себя за петлицу, он нервно дергал пиджачный отворот, точно пробуя бросить себя куда-то вперед или вверх:
– Кажется, я встретил, страшно даже выговорить… ну да, одного из тех, о которых я клепаю свои листовки. Это непередаваемо, это нельзя ни в каких словах. Теперь я знаю, что значит очутиться на ладони у Гулливера: сожмет в пясти – и пшт. Наружно он похож на этакого мунляйтфлиттера, но…