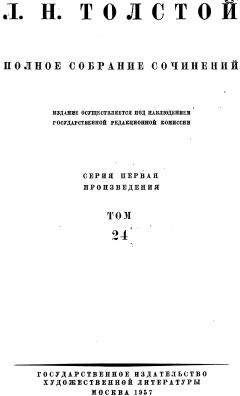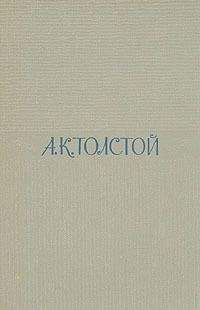Юрий Тынянов - Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)
Подпоручик Киже стал именем нарицательным, стал символом холодного, равнодушно-казенного отношения к жизни. Это имя и до сих пор можно встретить в сатирической заметке, в публицистической статье, направленной против бюрократизма. Но значение рассказа глубже. В наброске автобиографии Тынянов писал: «После романа о Грибоедове я написал несколько рассказов. Для меня это были в собственном смысле рассказы: есть вещи, которые именно рассказываешь как нечто занимательное, иногда смешное. Я работал тогда в кино, а там так начинался каждый фильм и так находились детали». Это замечание относится, мне кажется, к рассказу «Малолетный Витушишников». Как и в «Подпоручике Киже», Тынянов из множества больших и малых событий, составляющих жизнь огромной страны, выбирает самое малое: на этот раз «государственное потрясение» в России Николая Первого возникает и молниеносно развивается по той причине, что фрейлина Нелидова «отлучила императора от ложа». Но и это незаметное, ничтожное, замкнутое событие оказывается тесно связанным с другими, все более крупными, доходящими наконец до «исторической катастрофы». Так стройно работающий «электромагнетический аппарат» николаевской эпохи открывается во всей своей мнимой значительности и ложном величии.
Исторические рассказы Юрия Тынянова проникнуты иронией — по видимости добродушной, а на деле язвительной и горькой. Я бы сказал, — быть может, это покажется странным, — что в них есть нечто чаплинское: то соединение гротеска и трагедии, обыденного и невероятного, смешного и печального, та бессмысленность существования, против которой не только трудно, но опасно бороться.
Повесть «Восковая персона» стоит несколько в стороне от других произведений Тынянова, хотя нисколько не уступает им ни в конкретности исторического воображения, ни в силе, с которой нарисованы деятели петровского государства. Она порою трудна для чтения: она написана как бы от имени человека петровского времени, когда в русский язык ворвалось множество иностранных слов, подчас в неожиданных и причудливых сочетаниях. Это были слова, еще как бы неловко и неуверенно чувствовавшие себя в чужом языке и вместе с тем необычайно резко окрашивавшие разговорную речь того времени. Нужно было глубоко проникнуть в лексику Петровской эпохи, чтобы воспроизвести ее на страницах «Восковой персоны».
Но стилистическая новизна и острота этой повести заключается не только в том, что в ней воспроизведен язык Петровской эпохи. Эти языковые средства помогли Тынянову создать характеры, поразительные но своей точности. Таков Меншиков с его потерей представления о том, что его окружает, с его страхом перед огромностью того, что находится под его неограниченной властью, с его любовью к «даче», то есть к взятке, которая мила ему именно конкретностью, определенностью, ощутимостью. Такова Екатерина, так и оставшаяся деревенской девкой, погруженная в мир поразительно ничтожных интересов. Таков, наконец, сам Петр, умирающий в одиночестве на своем холодном ложе, вокруг которого с каждым часом образуется пустота, простирающаяся далеко, граничащая с крушением всего, что он сделал, доходящая до тех пределов, которые он некогда завоевал с «великим тщанием и радением».
Нельзя не согласиться с Б. Костелянцем, который считает, что в этой повести Тынянов «отвергает идею, будто парод живет вне истории». С более глубокой позиции, завоеванной советской литературой в ходе своего развития, он видит взаимосвязь между тем, что творится на «авансцене» истории и на ее «задворках». На «авансцене» истории идет «неслыханный скандал», идет «ручная и ножная драка» между Меншиковым и Ягужинским, первыми людьми государства. А на «задворках», в народных низах, рождаются силы, которые стремятся уйти и уходят из-под власти феодально-бюрократической государственности.
«Восковая персона» проникнута ужасом перед тем полным уничтожением человеческого достоинства, которое заставляло брата доносить на брата, которое в самом предательстве находило счастье, восторг, самоупоение. В повести рассказана история двух братьев — Якова, одного из «монстров и натуралий» петровской кунсткамеры, и Михаила, «солдата Балка полка», каждая мысль которого определена сознанием того, что он — не кто иной, как солдат этого давным-давно не существующего «Балка полка».
Солдат «Балка полка» доносит на мать, обоих пытают, потом отпускают, изуродованных, и «оно пришли, каждый своей дорогой, к своему повосту, и у повоста встретились и, не глядя друг на друга, пошли к дому...».
Повесть называется «Восковая персона» потому, что после смерти Петра художник Растрелли создает его восковое подобие. Фигура встает, когда к ней приближаются, и поднимает руку. И одним кажется, что покойный император приветствует их, а другим, что он гневно указывает на дверь. Фетиш создается, чтобы продолжал действовать страх, который был сильнейшим оружием петровского государства. Восковой император властвует над разрушающимся хаосом его великих дел до тех пор, пока его не ссылают в кунсткамеру, к другим «монстрам и раритетам».
Исторические произведения Тынянова важны для понимания того, что происходило в мировой истории XX века.
В предвоенные годы мы виделись очень часто, почти каждый день. Я приходил к нему, мы шли гулять. Но неделя за неделей все короче становились наши прогулки: до Сенатской площади (он жил на улице Плеханова), до Адмиралтейства, до Казанского собора, до садика с воронихинской решеткой. Перед войною он уже с трудом спускался с лестницы, и случалось, что, постояв во дворе, мы возвращались обратно.
Тяжелая болезнь — рассеянный склероз, против которого до сих пор не найдено средства, — не лишила его душевной бодрости, энергии, живого интереса ко всему, что происходило в стране, в литературе. Он принимал участие в литературных делах ленинградских писателей.
Незадолго до войны ленинградские писатели устроили торжественный вечер, о котором стоит упомянуть, потому что это был, в сущности, единственный вечер, когда признание Тынянова выразилось с запомнившейся силой.
Он был строго требователен в вопросах литературных и никогда не боялся такой же строгой требовательности по отношению к себе. Любовь его к русской литературе была любовью к родине — этой мыслью было проникнуто все, что говорилось в тот вечер. И можно смело сказать, что вся его трудная, полная страданий жизнь была проникнута этим высоким чувством.
Во время войны, в тяжелых условиях эвакуации, он дрожащей рукой писал третью часть своего последнего романа. Он знал, что умирает, но ему хотелось, чтобы в этой третьей части юность Пушкина была рассказана до конца.
...Пушкина высылают. Белой ночью, которая яснее, чем день, он прощается с Петербургом, как с живым человеком. «Его высылали. Куда? В русскую землю. Он еще не видел ее всю, не знал. Теперь увидит, узнает. И начиналось не с северных медленных равнин, нет — с юга, с места страстей, преступлений. Голицын хотел его выслать в Испанию. Выгнать. Где больше страстей? Он увидит родину, страну страстен. Что за высылка! Его словно хотят насильно завербовать в преступники. Добро же! Он уезжал. Вернется ли? Застанет ли кого? Или повернет история? Она так быстра». И дальше: «Он знал и любил далекие страны, как русский. А здесь он с глазу на глаз, лбом ко лбу столкнулся с родною державой и видел, что самое чудесное, самое невероятное, никем не знаемое — все она, родная земля...»
Прощаясь с жизнью, писал Юрий Тынянов прощанье Пушкина с юностью. Но мужеством проникнуто каждое слово: «Выше голову, ровней дыханье. Жизнь идет, как стих». Это было написано, когда все ниже клонилась голова, все чаще прерывалось дыхание...
1904,1974
H. В. Яковлев
ДАЛЕКИЕ ГОДЫ
1
«Он был из вдохновенных и глубоко взирал на жизнь»
[Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 3, кн. 2. 1949, с. 943].
Эти слова Пушкина о Мицкевиче приходят мне на ум, когда я вспоминаю о выступлении Ю. Н. Тынянова по одному докладу о стихотворении Пушкина «Роза». Вспоминаются вполне естественно, хотя, конечно, mutatis mutandis, применительно к нашим скромным студенческим персонам.
Происходило это во время первой мировой войны, в 1915/16 учебном году, в Пушкинском семинаре или в студенческом Пушкинском обществе при Петроградском университете, под руководством в обоих случаях проф. С. Л. Венгерова.
Доклад этот носил обычный характер — историко-литературный, библиографический, текстологический, биографический. Выступления по нему слушателей были в том же роде. И вдруг надо всем этим литературно-академическим разговором пронеслось некое вдохновенное поэтическое слово.
Как убежденный сторонник сравнительного метода, я немедленно начал сравнивать это выступление с тем, что мне приходилось ранее слышать, и не только на университетских занятиях, от товарищей-студентов. Как-то сразу вспомнились лучшие лекторы, историки литературы, и в противовес им «мэтры» модернизма.