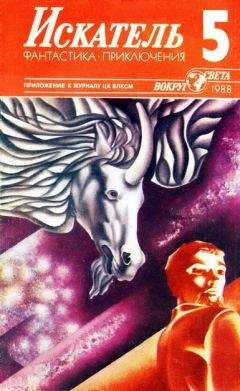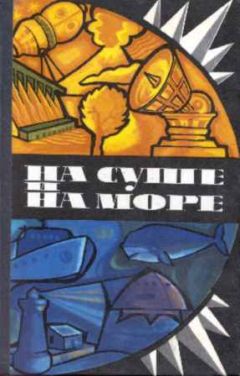Камиль Зиганшин - Щедрый буге
Некоторое время я благоговейно созерцал предмет своих мечтаний и привыкал к мысли, что поймал соболя. Потом, так и не сумев до конца поверить в свою удачу, вынул зверька из капкана, ласково погладил нежный мех и, счастливый, помчался дальше.
Три следующие ловушки были пусты. А пятая опять заставила поволноваться. Снег вытоптан, тут же валялся перегрызенный пополам потаск. Ни ловушки, ни соболя. С трудом нашел его в соседней ложбине в щели между обнаженных корней кедра. Зверек так глубоко втиснулся между ними, что я еле извлек его. И вовремя -- мышиный помет посыпался прямо из шубки. К счастью, мех попортить грызуны еще не успели. В седьмом капкане опять соболь. Эту ловушку я привязал прямо к кусту без потаска. Бегая вокруг него, соболь перекрутил цепочку восьмерками и оказался вплотную притянутым к кустарнику, как Карабас-Барабас бородой к сосне.
Оставалось еще два непроверенных капкана, но невероятная удача опьянила меня, и я отдался неуемным мечтам и фантазиям, не замечая уже ни свежих следов, ни новых тропок. Радость переполняла сердца. Мягкие теплые волны счастья несли, качали, дурманя все больше и больше. Я окончательно утратил чувство реальности и наверняка был бы разгневан, окажись восьмой капкан пустым. Однако перед моим взором вновь предстала отрадная для промысловика картина: на том месте, где стоял капкан, вытоптана круглая арена, и на ее краю, уткнувшись мордочкой в снег, словно споткнувшись, лежал соболь-самец кофейного цвета.
На обратном ходе проверил шесть капканов на приманку. Пусто. Пустяки! Рюкзак и без того под завязку набит!
Вернулся с фартового путика пораньше, чтобы успеть приготовить достойный такого события ужин. Наварил мяса, бульон. Поджарил на сливочном масле четырех рябчиков с луком.
Подошедший вскоре Лукса поначалу был озадачен, увидев, что и ужин готов, и даже стол накрыт. Но когда я объяснил, наконец, причину торжества и достал весело булькающую фляжку, то радости его не было границ. Устроившись побыстрее у стола-чурки, он с чувством произнес:
-- Пусть удача приходит чаще, ноги носят до старости, глаз не знает промаха!.. В жизни не ел ничего вкуснее, -- похвалил он, досасывая косточки рябчика.
Какая-то странная погода стоит последние дни. Ночь звездная, мороз 30-35[о], а утром небо начинает заволакивать дымкой и временами сыплет пороша. К обеду становится так пасмурно, что казалось: вот-вот повалит настоящий снег, но к вечеру все постепенно рассеивается, и ночью опять высыпают звезды. Раньше при таком морозе я вряд ли бы снял рукавицы. А тут пообвык - капканы-то голыми руками приходится настораживать. Натрешь руки хвоей пихты, чтобы отбить посторонние запахи, и работаешь. К вечеру пальцы от холода опухают и краснеют. В палатку возвращаешься насквозь промерзший. Пока печь непослушными пальцами растопишь -- не одну спичку сломаешь. При этом невольно вспоминается рассказ Джека Лондона "Костер".
Но по мере того, как разгораются дрова, палатка оживает, наполняется теплом, и ты, только что все и вся проклинавший, добреешь, становишься благодушней. Сидишь усталый, расслабленный и неторопливо выдергиваешь из спутавшейся бороды и усов ледяные сосульки, намерзшие за день. А когда вскипит чайник и выльешь кружку сладкого душистого напитка, то уже готов любому доказывать, что лучше этой палатки и этого горного ключа нет места на земле.
Потом начинаешь заниматься повседневными делами. Колешь дрова, приносишь с ключа воду, достаешь с лабаза продукты, моешь посуду, варишь по очереди с Луксой ужин, завтрак и обед одновременно. Обдираешь тушки. Чуть ли не ежедневно латаешь изодранную одежду, ремонтируешь снаряжение, заряжаешь патроны, делаешь записи в дневнике. После ужина поговоришь с Луксой о планах на завтра и ныряешь в спальник до утра.
Спать при таких морозах в ватном мешке, конечно, не то, что в теплом доме на мягкой кровати, но тут главное -- правильно настроить себя, осознать неизбежность определенных неудобств. Тогда недостаток комфорта и тепла переносится значительно легче. Я, еще два месяца назад не представлявший, как люди могут зимой жить в матерчатой палатке, теперь считаю это вполне нормальным, а те трудности таежного быта, которые рисует воображение в городе, на самом деле не так велики.
Имея жестяную печь, палатку, спальник, свечи и необходимые запасы, в тайге можно счастливо и безбедно жить не один месяц. А нужно так мало потому, что есть главное - древнее мужское занятие и изумительной неиссякаемой красоты дикая природа, с которой здесь сливаешься.
Только в тайге я понял, каким обилием излишеств окружила вас цивилизация. На самом деле, истинно необходимых для жизни человека предметов не так уж много. Но, к сожалению, потребности человека, особенно горожанина, безграничны. То, что еще вчера было пределом его мечтаний, сегодня норма, назавтра же и этого становится недостаточно. При этом в погоне за материальным благополучием зачастую уже не хватает ни сил, ни времени на развитие и укрепление духа.
ШАТУН
Ни свет, ни заря начал обход Фартового путика, подарившего мне сразу четырех соболей.
Поднимаясь по ключу, заметил под козырьком снежного надува хорошо натоптанную тропку норки. Недолго думая, поставил ловушку. А на том участке, где я снял трех соболей, свежих следов больше нет -- отработанная зона. Зато на приманку попалась белка. То, что белка иногда идет на мясо, я знал, но меня поразило, что эта милая симпатяга соблазнилась тушкой своей же соплеменницы.
У края небольшой мари устроился передохнуть на валежине. По небу плыли редкие облака, ярко светило солнце. Недалеко от меня на суку старой березы неподвижно сидела сова. Расстегнув футляр фотоаппарата, стал тихонечко подкрадываться к ней. Сова подпустила метров на двадцать и перелетела через марь на макушку ясеня. Когда я вновь приблизился к ней, она спланировала назад, на то же дерево, на тот же сук, с которого я спугнул ее до этого. Мне думается, что общепринятое мнение о дневной слепоте "мудрой" птицы ошибочно. Возможно, она днем видит хуже, чем ночью, но все-таки видит.
Продлив Фартовый на четыре километра и насторожив там шесть капканов, спустился к ключу. Возвращаясь мимо снежного надува, увидел норку, уже беснующуюся в ловушке. При моем появлении она устрашающе ощерилась, зашипела, впилась злым взглядом прямо в глаза. Мускулистое тело находилось в беспрестанном движении, отчего густая, темно-коричневая шубка отливала перламутром.
Когда я попытался прижать ее к снегу, норка с такой яростью бросилась на меня, что почудилось -- нет в тайге зверя страшнее. Я, признаться, даже растерялся перед ее безумной храбростью и неистовой решимостью драться с несоизмеримо более сильным противником.
По дороге к палатке стрелял по вылетавшим из-под снега стайкам рябцов. Две замешкавшиеся птицы морозятся теперь на лабазе. Могло быть и больше, если бы не очки: как вскинешь ружье, так линзы от влажного дыхания покрываются налетом изморози. Боюсь, они скоро доведут меня до того, что разобью их о первое попавшееся дерево.
За ужином рассказал Луксе о беличьем каннибализме.
-- Так бывает у зверей, когда ум теряют, -- подтвердил он. --Соболь соболя в капкане никогда не трогает. Но, помню, как-то один соболь к изюбру прикормился. Я, конечно, сразу капканчик поставил. Прихожу проверять в дужках одна лапа. Вроде ушел соболь, но по следам вяжу, нет, не ушел -другой съел. Снова капкан поставил. Другой опять съел. Я рассердился -- не шутка, елка-моталка, два соболя потерял. Наставил много капканов. На другой день прихожу -- никого нет. На второй день -- два рядом лежат. У одного лопатка выедена. И этого дурной начал есть, да не успел, сам попался, наконец. Рядом гора мяса, а он своих ест, елка-моталка. Совсем дурной.
Громкое карканье возвестило о наступлении утра. Черные как смоль дармоеды слетелись на лабаз поживиться за наш счет. Пират и Индус, обычно разгонявшие их заливистым лаем, прятались от трескучего мороза в пихтовых гнездах, занесенных снегом. Но как только из трубы потянулась голубая струйка дыма, вороны скрылись в лесной чаще.
Мороз нынче потрудился на славу. Покрыл ветви невообразимо толстой искристой бахромой, сверкающей в лучах восходящего солнца. Над полыньями клубится туман, густой и плотный, как вата.
Я сделал новый кольцевой путик вдоль левого и правого берегов Буге. Лыжня прошла верхом по самым крутым склонам. Поэтому он и получил у меня название "Крутой".
Конец путика достигал зубчатого гребня водораздела Буге -- Джанго. С него было видно, как во всю ширь горизонта огромными волнами дыбятся горы, подпирающие белыми, островерхими шапками густо-синий небосвод. Воздух настолько чист и прозрачен, что, казалось -- протяни руку и достанешь до одной из этих вершин.
Мимо проплывали облака, легкие и зыбкие, как миражи средневековых парусников. Следом по земле неотступно, как шакалы за добычей, крались их серые тени. Вдали виднелись отроги главного хребта, поражающего своей мощью. Все в нем завораживало, властно притягивало взгляд. Впоследствии всякий раз, когда первобытный контур этих скалистых вершин всплывал из глубин памяти, в сердце пробуждалась лавина воспоминаний и щемящее желание вновь взглянуть на вздыбленных дикой пляской каменных исполинов.