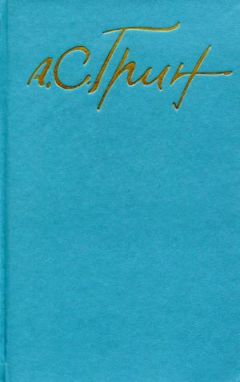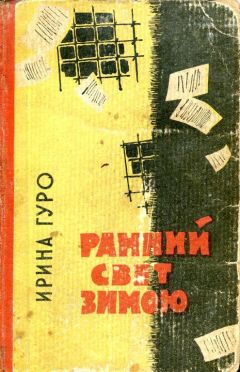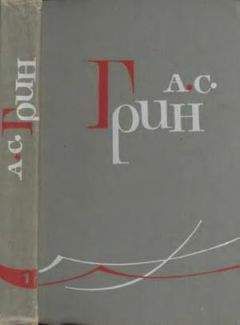Александр Грин - Том 1. Рассказы 1906-1912
Девушка покраснела и задумчиво рассмеялась. Кирилл громко расхохотался, очевидно, живо представив себе картину, нарисованную Яном.
— А ведь правда, Женька… — заговорил он. — Как подумаешь, что мы когда-то бегали без штанов… Даже странно. Да, в горниле жизни куется человек! — патетически добавил он. И вдруг заорал во все горло:
Плыви-и мой чо-о-олн!!.
На ближайших пристанях всполошились собаки и беспомощно залаяли сонными, обиженными голосами.
— С ума ты сошел, Кирька!.. — прикрикнула, смеясь, девушка. — Тоже, — взрослый считаешься!..
Кирилл внезапно впал в угрюмость и заработал сильнее веслами. Ян круто поворотил руль, и лодка, скользнув под толстыми якорными цепями барок, уткнулась в берег, освещенный редкими огнями ночных фонарей.
Заспанный парень-лодочник принял нашу лодку, и мы поднялись на берег к городскому саду. Всем смертельно хотелось спать. Девушка подошла к Яну.
— Так вы, значит, завтра едете?.. — спросила она, широко раскрывая полусонные глаза. — Скоро! Что же вы это так?
— Надобность явилась… И так как я вас больше не увижу, то позвольте пожелать вам всего лучшего!..
— Вот пустяки! Мы еще увидимся с вами, Ян. Я этого желаю… Слышите?
— Слышать-то слышу… Ну, до свидания, идите бай-бай…
— До свидания.
Она подала ему руку, и он задержал ее на секунду в своей тонкой, смуглой руке. Девушка молча посмотрела на него и что-то соображающее мелькнуло в ее мягких чертах. Я тоже пожал Яну руку, прощаясь с ним, и — сто против одного — навсегда. Он крепко, до боли впился в мою сильными, жилистыми пальцами. Они были холодны и не дрожали. Кирилл поцеловался с ним и долго, крепко тискал его руки в своих. Глаза его из насмешливых и пытающих вдруг сделались влажными и добрыми.
— Ну, дорогой Ян, прощайте, прощайте! Не забывайте нас! Ну, всего хорошего, идите!.. Вот проклятая жизнь — нет даже утешения в квартире попрощаться! Ну, прощайте!..
И мы разошлись в разные стороны.
IIIЯ опустил плотные, парусинные шторы и зажег лампу. Мне не ходилось, не сиделось и не стоялось. Нетерпеливый, ноющий зуд сжигал тело, и виски ломило от напряженного ожидания. Ни раньше, ни после, — никогда мне не случалось так волноваться, как в этот день.
Лампа, одетая в махровый розовый абажур, уютно озаряла центр комнаты, оставляя углы в тени. Я ходил взад и вперед, сдерживая нервную, судорожную зевоту, и мне казалось, что время остановилось и не двинется вперед больше ни на иоту. И в такт моим шагам прыгал взад и вперед часовой маятник, равнодушно и бегло постукивая, как человек, притопывающий ногой.
Я развернул газету и побежал глазами по черным рельсам строк, но в их глубине замелькали освещенные и шумные городские улицы и в них — фигура Яна. Он шел тихо, осторожно останавливаясь и высматривая.
Тогда я лег на кровать и закрыл глаза. Розоватый свет лампы пронизывал веки, одевая глаза светлой тьмой. Огненные точки и узоры ползли в ней, превращаясь в буквы, цифры, фигуры зверей Апокалипсиса.
Вечер тянулся, как задерганная ломовая кляча. Каждую секунду, короткую и длинную в своей ужасной определенности, я чувствовал в полном объеме, всем аппаратом сознания — себя, лежащего ничком и ждущего, до боли в черепе, до звона в ушах. Я лежал, боясь пошевелиться, вытянуться, чтобы случайным шумом или шорохом не заглушить звуки прихода Яна. Я ждал его, хотел увидеть снова и уже заранее торжествовал при мысли, что он может не прийти… Ожидание победы боролось где-то далеко, внутри, в тайниках сознания с тяжестью больной, бьющей тоски.
Она росла и крепла, и тяжелые, кровяные волны стучали в сердце, тесня дыхание. Вверху, над моей головой, потолок содрогался от топота ног и неслись глухие, полузадушенные звуки рояля, наигрывающие кек-уок. Это упражнялось по вечерам зеленое потомство плодовитой офицерской семьи. На секунду внимание остановилось, прикованное стуком и музыкой. Возня наверху усиливалась. Белая пыль штукатурки, отделяясь от потолка, кружилась в воздухе. Отяжелевший мозг торопливо хватался за обрывки аккордов. Старинные кресла, обитые коричневым штофом, хвастливо упирались вычурными, изогнутыми ручками в круглые сиденья, как спесивые купцы, довольные и глупые. Пузатый ореховый комод стоял в раздумьи. Письменный стол опустился на четвереньки, выпятив широкую, плоскую спину, уставленную фарфором и бронзой. Лица людей, изображенных на картинах, окаменели, прислушиваясь к светлой, гнетущей тишине ожидания. И казалось, что все вокруг притаилось и хитро, молча ожидает прихода Яна. И когда он войдет, — все оживет и бросится к нему, срываясь с углов и стен, столов, рам и окон…
И вдруг тоска упала, ушла и растаяла. Наверху бешено и глухо загудела мазурка, но топот стихал. Голова сделалась неслышной и легкой, как пустой гуттаперчевый шар. И я встал с кровати, твердо уверенный в том, что Ян идет и сейчас войдет в комнату.
IVЕдва он вошел, как я бросился ему навстречу. Ян остановился в дверях, измученный и слабый, торжественно смотря мне прямо в глаза. Одежда его была в порядке, и это обстоятельство не казалось мне странным и удивительным. Он сделал, и не только несмотря на это, а вопреки этому — уцелел. Все остальное было пустяки. Раз совершилось чудо, — одежда имела право остаться чистенькой. Я держал его за руки, выше локтей, и изо всей силы тряс их, захлебываясь словами. Они кипели в горле, теснясь и отталкивая друг друга.
Ян отстранил меня легко, как ребенка, плавным движением руки и, подойдя к столу, сел. Нельзя сказать, чтобы он был очень бледен. Только волосы, прилипшие на лбу под фуражкой, и тонкая жила, вздрагивающая на шее, выдавали его усталость и возбуждение. Весь он казался легким, тонким и маленьким в своем новеньком, с иголочки, офицерском мундире.
Первое, что я увидел, — это его улыбку, сокрушенную и мягкую. Он сидел боком к столу, вытянув ноги и положив руки на колени, ладонями вниз. Мы были одни, и никто не мог услышать нашего разговора. Но я склонился к нему и сказал тихим вздрагивающим шепотом, как если бы нас окружала целая сеть глаз и ушей:
— Вот как?.. Славно…
Улыбка исчезла с его лица. Он задвигался на стуле и так же тихо ответил:
— Сегодня ничего не было. Значит, придется завтра…
Чудо исчезло, осталось недоумение. Я сразу устал, как будто только что выпустил из рук тяжелый камень.
И между нами произошел следующий, тихий и быстрый разговор:
— Он не был, Ян?
— Был.
— Он ехал, да?
— В карете. Я видел его.
— А потом?
— Он уехал.
— Почему?
— Я ушел.
— Почему же, почему, Ян? Ян!..
Он зажмурился, крепко стиснул зубы и тихо, раздельно роняя слова, ответил:
— Он был не один… Там сидела женщина и еще кто-то… Не то мальчик, не то девочка… Длинные локоны и большие капризные глазки… Ну…
Он умолк и открыл глаза. Они щурились от яркого света лампы. Ян прикрыл их рукой и сказал резким, равнодушным голосом:
— Нельзя ли послать за пивом? У меня что-то вроде озноба…
Я молчал, и странная, жуткая, полная мысли тишина сковала дыхание. Ян, видимо, совестился поднять глаза. Одна его рука смущенно и неловко шарила в кармане, отыскивая мелочь, другая лежала на столе, и пальцы ее заметно дрожали.
Оглушительный, потрясающий звон разбил вдребезги тишину. Это ударил тихий, мелодичный бой стенных часов…
Когда на следующий день вылетели сотни оконных стекол и город зашумел, как пчелиный улей, я догадался, что на этот раз — он был один…
Апельсины
Брон отошел от окна и задумался. Да, там чудно хорошо! Золотой свет и синяя река! И синяя река, широкая, свободная…
Свежий весенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце. Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и он увидит вблизи синюю, холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увидит все… Как молодой орел он взмоет, освобожденный в воздушной пустыне и — крикнет!.. Что? Не все ли равно! Крикнет — и в крике будет радость жизни.
Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое, потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими, сбившимися волосами. Тонкая, жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной, ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался.
Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало, как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четыреугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали как беспокойные птицы, что у реки, над бархатом камышей, поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.