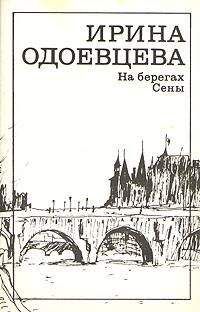Павел Мейлахс - Избранник
Был конец апреля. Стояла самая настоящая жара, ни с того ни с сего. В куртке он быстро спарился, приходилось тащить ее на руке. Быстро достало ее тащить, смертельно. Было очень хреново. Они брели каждый как будто сам по себе, но все в одном направлении.
А он вчера так и не позвонил родителям. Вырубился раньше...
А сколько контрольных не написано? Со своей математикой он ту, школьную математику забросил. На семинарах, наверно, уже забыли, как он выглядит. А с родителями сегодня придется говорить. Придется.
- Мужики, давайте сделаем перерыв, что-то я не могу больше.
Все трое брякнулись на сухой бордюр. Молча курили. Ладно, еще успею домой... Успею еще, успею! Хреново как все-таки...
- Времени сколько сейчас?
Ни у кого не было часов. Слава богу.
В гадючнике было прохладно. Пиво, соленая рыба на блюде. Об алкоголе он думать не мог, а с пивом он вообще не знал, что делать, не знал, зачем оно вообще существует. С вялым любопытством понюхал рыбу, сразу сделалось муторно. Бабник ловко, привычно, управлялся с рыбой, пил пиво. Как будто не похмелялся, а пришел приятно провести время. Серега брезгливо поморщивался, иногда бросал взгляды по сторонам, и тем, что он видел, он был явно недоволен. От рыбы он тоже отказался, едва понюхав ее, обидно при этом обозвав. Бабник сдержанно пожал плечами. Пиво, однако, Серега пил, тоже, впрочем, предварительно его обругав. А он откинулся, насколько было возможно, на прямую, твердую спинку и прикрыл глаза. Серега с бабником вполголоса переговаривались, о своем. Ментов вызвала... стекло в шкафу разбил... сказали, сами разбирайтесь... сотрясение мозга на восьмое марта... Он когда-то немножко общался с Серегой. Любимой книжкой у Сереги было "Преступление и наказание". А раньше - Эдгар По.
Наконец они вышли из гадючника, мающийся Серега, держащийся как ни в чем не бывало бабник. Ему все хотелось прилечь, и он знал, что сейчас надо ехать домой.
- Ладно, мужики, бывайте. Поехал я.
- А че так? Сейчас чего-нибудь путевого возьмем.
- Да не, хватит с меня. Ну, давай. Давай. - Он пожал руку сначала Сереге, потом бабнику. И пошел к остановке. Куртка размоталась, поволоклась по пыли. Он вздернул ее за загривок, скомкал, смял как можно плотнее, и ком понес под мышкой.
Он медленно поворачивал ключ в замке, злясь на свое малодушие, на всю поганость ситуации. Ступил через порог, в прихожую. Родители сидели в его комнате, у его стола, по разные стороны, и смотрели оттуда в прихожую, то есть туда, где только что появился он. Сидели в застывших позах, как будто собрались фотографироваться. И как будто уже много часов подряд.
Мы уже все морги обзвонили.
Он никак не мог начать говорить. Ворочал во рту своим обожженным языком. Ему нет прощения.
Я хотел вчера позвонить. Ей-богу. Вырубился...
Ей-богу, хотел позвонить. Ну правда, ей-богу. Все время помнил, ей-богу. Он все талдычил свое "ей-богу" и чувствовал, как дрожат ноги, как всего его тошнит, как голова наливается какой-то мерзостью.
Действительно хотел? Отец смотрел все так же мрачно, медленно, и прямо ему в глаза, но слегка как будто приподнял брови. Не то чтобы с надеждой, а скорее с неким отстраненным любопытством.
А вы действительно думаете, что я способен так всех бросить, про всех забыть? Уже как будто с каким-то встречным обвинением.
Я не знаю, на что ты способен. Отец пожал плечами с некоторой презрительностью.
Он, кажется, начал что-то говорить, но отец опять сказал: я думаю, наплевать ты способен на кого угодно.
Но это же... Я ей-богу, действительно... Но тут вступила мать, уже в тоне "мамаши", в тоне взбучки. Пьянки твои бесконечные! Кончится это когда-нибудь?! Учиться ты как собираешься?! Хвостов много у тебя?!
Он почувствовал мгновенное облегчение от того, что самое трудное позади прийти и первый раз посмотреть, первый раз сказать, первый раз услышать, однако взбучка только начиналась, ее предстояло терпеть и терпеть. Осмелев, он уже отбрехивался, не без дерзости. Да куда денутся эти контрольные?! Да не так уж я и пью, бросьте вы! Ему уже казалось, что все, достаточно, он уже свое получил. Когда он только вошел, он сразу увидел мать и отца, сразу увидел, что они не спали всю ночь, сразу представил, что они при этом чувствовали, пока он обливал себя бормотухой, спотыкался, валился, пьяно здоровался через скатерть, куражился, бегал за добавочкой; он сразу увидел все это и понял, что ему прощения нет. Но прошло совсем немного, и он чувствовал себя едва ли не самым главным пострадавшим. Сколько можно, в конце концов, тарахтеть?
Он все так и стоял в прихожей, огрызаясь на них, как будто из клетки, или наоборот, в клетку. Башмаки он так и не снял, а осточертевшую куртку уронил где-то рядом, куда попало, каким-то краем почувствовав маленькое удовольствие; пнуть бы ее еще, суку. Вдруг крупно дернулась, вильнула нога; он почувствовал, как что-то внезапно набрякло, вспухло в голове, какая-то тошнотворная гадость там, мерзость. Он не мог больше стоять на одном месте и пошел в комнату. Куда в башмаках?.. Чистый пол... Что-то такое до него донеслось, но ему было на это наплевать; он уселся на диван, пытался расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке, она оторвалась, держалась на ниточке, он почувствовал прилив жара к голове, к спине. Стало до того хреново, не мог больше, и он заговорил, потому что надо было что-то делать, иначе он околеет прямо здесь, на этом диване.
- Веселюсь, говорите?! Вы бы... Послушайте! Нет, послушайте! Я расплачиваюсь за какие-то чужие грехи! Я их не совершал! Кальвинизм какой-то! Мне суждено погибнуть! И вы виноваты! Ты виноват! Я не могу жить! Вы виноваты! Кальвинизм какой-то!
Каким-то краем он увидел, что мать было возмутилась, но сразу же испугалась, хотя и продолжала говорить как бы все тем же тоном, так же громко, но все равно, это уже был скорее лепет; она с испугом вглядывалась в его лицо. Отец пропал из поля зрения.
Голова переполнялась, сейчас она лопнет; он резко встал с дивана и пошел, вокруг все плыло, шаталось. Голоса. "Кальвинизм", - хрипло, сдавленно сказал он еще раз, направляясь к дверям; его перемкнуло с "ей-богу" на "кальвинизм", задребезжало стекло, - он грубо саданул плечом деревянно-стеклянную половинку двери, - шарил по нагрудному карману, надо немедленно закурить, хоть что-то сделать, открыл слабыми, эфемерными руками дверь на лестницу. У своего мусоропровода он закуривал неправдоподобно прыгающими руками. Сейчас какая-нибудь трубка лопнет в голове... И хана... Побледневшая мать спускалась к нему. Тебе воды принести? Корвалольчику? Ты не волнуйся, не волнуйся. Он со всхлипами курил папиросу, держа ее двумя руками, как духовой инструмент. Тупая боль наваливалась на затылок изнутри. Он почувствовал, что сейчас его вырвет; он затянулся изо всей мочи. Спокойно, спокойно. Все нормально... Голова что-то... Говорил он вслух; мать стояла рядом и держала его за руку, за сгиб руки. Потом понеслась за водой. Потом он сидел на мусоропроводной крышке и пил воду из чашки, зубы стучали о фаянс.
Медленно поднимался наверх. Все тело меленько-меленько дрожало, но уже расслабленно, а не судорожно. Тошнотворный прилив в голове схлынул, теперь она просто болела. Жарко не было, наоборот, скорее зябко. Потом он сидел на кухне, навалившись локтями на стол, положив подбородок на сцепленные руки, глядя вниз. Ему полегчало... Он чувствовал, что сильно хочет отлить, пять минут назад совсем не хотелось, а теперь вдруг... Мать была рядом. Ну? Как, лучше? Да, мам, сейчас нормально. Ты, с твоим сердцем, и пьешь! Мать сказала это внезапно тонким голосом, он взглянул на нее и увидел ее глаза, налившиеся слезами. Она смотрела на него как бы со стороны, как будто хотела проникнуться, прочувствовать всю... Не надо, умоляю тебя. Сколько вы хоть выпили вчера? Может, рассольчику хочешь? Давай, рассольчику! Ее крестьянская родня... Она все-таки оживилась после того, у мусоропровода, и теперь делала то, что и положено делать в таких случаях. Он услышал "рассольчику" и почувствовал обильные слезы на глазах. Он смотрел, как она мигом извлекла огромную банку, прытко, ловко открыла ее открывашкой, не пролив ни капли плеснула в большую чашку. Она с удовольствием делала это простое и понятное дело. Он выпил рассольчику. И еще рассольчику. И еще. Спасибо, мама. Спасибо. Спасибо. Он вдруг увидел, что гладит ее по руке. Убрал руку. Ладно, пойду я, полежу. Да, все, нормально. Стекло там цело? Цело. Из туалета он услышал глухой, хрипловатый голос отца: "Ну как он?"
Наконец-то он лег. Теперь можно не шевелиться, не бояться, что сейчас кто-то войдет, заорет до вспышек в глазах. Горячую морду в прохладную подушку. И пить больше не хочется. И потянуло в сон...
А назавтра он увидел задачник по математике, раскрытый неизвестно где страницы стояли дыбом, ощетинились; тетрадь и ручку на ней, и колпачок рядом. И он вспомнил гадостную портвяжную сладость в горле, гадючник с соленой рыбой, "Вы виноваты!", побледневшую мать, отца с серым лицом, с лопнувшим сосудиком в глазу, задребезжавшее стекло, стук зубов о чашку...