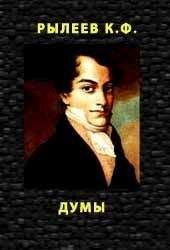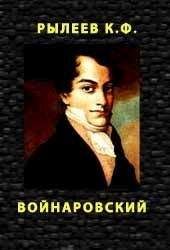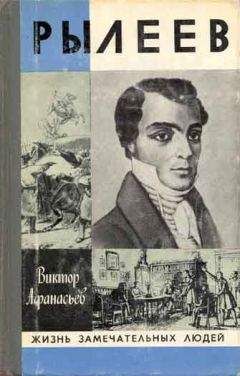Александр Грин - Таинственный лес
«Ведь он ни разу не спросил, кто я, — вспомнил Рылеев. — Он знал уже, а я и не догадался, да и как догадаться — никому в голову не придет».
— Я уеду! — вслух сказал, успокаиваясь, Рылеев. — Уеду сейчас, вот теперь. Фу-ты, боже мой! — почти вскрикнул он, припоминая отчетливо разговор с Тушиным, и, снова, затосковав, покраснел, как мальчик. Одно еще интересовало его, это — как и когда Лиза познакомилась с Тушиным? «Когда — не все ли равно, а как?..» Он представил внимательно ищущее лицо женщины, а рядом с ним — так же настойчиво обшаривающее глазами человеческие углы лицо мужчины и вспомнил, что почти у всех когда-либо виденных им людей было в слабой или сильной степени такое выражение лиц, словно человек про себя думал: «Да, я говорю с тобой, но ты мне не нужна (или не нужен), а вот постой, я сейчас встречу…»
«Искали, сошлись и успокоились, — продолжал размышлять Рылеев. — Вначале всего этого был, вероятно, разговор о погоде и местных новостях, а там глаза перекинулись чем-то таким, от чего хочется вздрогнуть, — и готово».
Придав лицу сонное и равнодушное выражение, Рылеев вышел из куреня.
Вчерашний мужик так же сидел на лавочке, упираясь в нее руками, словно у него заболел живот. Рылеев сказал:
— Выспался, отдохнул. Как бы мне уехать отсюда? Нет ли у тебя лошади?
— Вот беда, — хихикнул мужик, — лошадь ноне захромала: ездил по дрова, подковать лень было, на колдобине-то ногу зашибла кобылка… А чего лучше вам с плотиком?
— С плотиком? — вспомнив слова Тушина, сказал Рылеев. — Ну, а как?
— А по речке. Дровяник заночевал у меня, с плотиком едет. Плотик, что говорить, немудрящий, сухостойный, а троих подымет, да вас двое всего и будет. По речке тут к полдню, а то и раньше, поспеете.
— Мне все равно, — сказал Рылеев. — А где этот человек?
Куренщик оглянулся.
— В избе обувается… Да вот он, багор несет.
Маленький, деловитого и сухого вида старик, в натуго подпоясанном азяме, лаптях и обычной для местных крестьян татарской, на вате, шапке, тащил за конец шест. За поясом мужика болтался топор.
— А что, Бурмакин, — сказал куренщик, — пассажир тебе есть. Свезешь, поди, — вчера-то говорили.
— Давай, — бодро ответил, прищурившись, крестьянин. — Куды ни шло, не утопнем.
— Мне в село надо, на станцию, — сказал Рылеев.
— Туды и еду. Айда! — Старик, замедлив несколько шаг, чтобы выслушать и ответить, продолжал быстро идти к реке.
— Ступайте, свезет, — сказал куренщик Рылееву. — Езжайте благополучно.
Старик, бросив вперед себя шест, прыгнул на середину плотика, Рылеев осторожно прошел к нему, замочил ноги и сел по-турецки.
— Разгонистая речишка, бурливая, — сказал, смеясь похожим на кашель смешком, старик. — Не бойтесь.
— Чего бояться, — искренне ответил Рылеев, — бояться нечего.
Старик, проворно колупая пальцами, отвязал причал, снял шапку, перекрестился на заблестевший восток и, подбежав к рулю, сильно двинул им к берегу. Плот тотчас, качнувшись, отошел и поплыл с быстротою идущего скорым шагом человека. Река, шириной не более десяти сажен, с плота показалась Рылееву шире и глубже. Берега, обрывистые, с вылезающими из подмоин корнями, плыли назад. Рылеев оглянулся, испытывая от необычайного способа путешествия род смешливого внутреннего неудобства и какого-то полудетского ожидания: что будет дальше? Старик, щуря рысьи с кисточками в бровях глаза, стоял лицом по течению; согнувшись, расставив ноги и поводя рулем, он сильно напоминал елочного деда.
Ивняк, среди которого, начиная от куреня, текла речка, кончился. Течение усиливалось. Тем временем утренний свет, озарив небо и землю, ударил по воде и прильнул к ней. Мгновенно преображенное, изменилось серенькое лесное утро.
Красная, радостная вода окружала убегающий плот; оттенки ее в светлой чистоте воздуха горели зеленым и розовым. Все получило вдруг свежесть и чистоту, выпуклость и неяркий, полный мирной улыбки блеск; Гарь, как и ивняк, кончилась, уступив место пышной заросли берегов. Дикий в цвету шиповник, мальвы, высокие лиловые колокольчики; теснясь среди белых, как молоко, тонких березок, обросли кручи; кое-где, зеленея у воды, папоротники отражались в глубине стрежей переливчатой цветной дрожью. Бревна, на которых сидел Рылеев, блестели. Беспричинно весело стало ему. Он щурился, смотря, как играет рыба, гоняясь за приседающей на воду стрекозой, и внутренне подтянулся. Веселое насилие совершалось над ним, словно в мрачную монашескую трапезу вбежала молоденькая девица, пугаясь, не выгонят ли ее, но низко склонились над тарелками с постной кашей черные головы, ухмыляясь в усы… И Рылеев немного ожил.
Шиповник тянулся по склонам береговых зазубрин а дальше, у подножия невысоких, стеснивших реку отвесов розового и белого известняка цвета эти переходили один в другой бледными, как бы полинявшими выступами.
«Хорошо, что я поехал на плотике, — думал Рылеев. — Вот я несчастен, а смотрю с удовольствием вокруг и так бы ехал еще долго. Да несчастен ли я? — сказал он, подумав. — Что же — жизнь для меня кончилась, что ли? Отлегло на душе, поэтому так и рассуждаешь, — возразил он сам себе. — А потом что?» Но вернувшаяся и осторожно укрепляющаяся в душе бодрость направила его мысли в сторону самозащиты. «Я не тряпка, а только убивающий сам себя человек. За всю жизнь я не пережил столько, сколько за эту неделю. Другую буду любить. Пройдет все. Другой я; спасибо тебе, Лиза». Чрезвычайно отчетливо припомнил он библиотеку и себя в ней, работающего без устали ради будущего. Все люди, посещавшие библиотеку, вспомнились ему с книжкой под мышкой: Гоголев, барышни, гимназистки, дама с флюсом, небритый пожиратель романов. И все-таки тень жизни осеняет его, подумал Рылеев, а многих ли осеняет она? И жизнь представилась ему такой, какая она есть: чудесная, полная неожиданностей, а вместе с тем — грубая и голая правда о борьбе, скуке и смерти, — кто чего хочет. Он не знал еще, что надвое должен жить человек, что для упорствующих жизнь-женщина стыдится ходить в черном теле; неряха муж видит жену по утрам растерзанной, нечесаной, и, мелочь за мелочью, проходит любовь. У жизни своя правда, у человека — своя, и надо соединить их. «Я знаю… — сказал Рылеев, — знаю», — и не мог сам себе выяснить, что знает и как. Это было знание, невыразимое словами и мыслью, новые глаза, полнота человеческих желаний. «Напишу или приеду», — повторил слова Лизы Рылеев и не поверил словам: слишком резко стояло перед ним серьезное лицо Тушина. «Подожду три дня и уеду», — сказал Рылеев. Снова захотелось ему женской ласки и нежности. «Другую буду любить», — мстительно прошептал он. Злые слезы подступили к его горлу. Он поборол их и встал.
— Когда приедем? — спросил Рылеев Бурмакина.
— А приедем, — сказал старик, — пошто торопиться, в самый раз попадем.
— Ты почему на плотике едешь?
— Я от хозяина. Вишь, плоты снесло; после дождя это, так бревна засекло по хрящам, застряли то есть, да, видно, снесло опять, — чистая река-то!
Рылеев посмотрел вперед. Река стала шире и ленивее, по берегам тянулся теперь смешанный густой лес. «Нет, нет, — сказал он себе, одолевая последние, уже слабые приступы возмущения и тоски, — так было, значит, так хорошо, ты зрячий, теперь живи и смотри в оба».
XIТушин вошел в сени, быстро отворил дверь и осмотрелся, улыбающимися глазами ища Лизу.
— Лиза! — позвал Тушин, прошел к столу и вправо, где стояла кровать, увидел девушку. Одетая, прикрыв плечи и голову тонким серым платком, Лиза лежала, согнувшись, лицом к стене. Улыбаясь, приблизился к ней на цыпочках Тушин и, опустив голову, прислушался.
Спокойное, ровное дыхание спящей женщины заставило его улыбнуться еще раз. Поколебавшись, он уперся ладонью в плечо девушки, поцеловал Лизу в розовый от сна висок и сказал:
— Проснись, это я.
Лиза медленно зашевелилась, вздохнула и, открыв глаза, села, проводя по лицу руками. Сонный, еще блестящий сквозь пальцы взгляд ее прояснился, осветив заспанное лицо ровной улыбкой.
— Который час, Миша? — спросила девушка.
— Девять, — сказал Тушин. — Я опоздал на сутки. Ты сердишься?
Лиза тряхнула головой и села, кутаясь в платок, у окна, смотря на улицу. Минуту спустя лицо ее, усталое и внимательное, обернулось к Тушину.
— Я рада, что ты жив и здоров, Миша, — сказала она. — Так что не сержусь я, благодарю тебя за то, что ты цел. Я не спала ночь. Мне казалось, что ты утонул, простудился, умер, что был какой-то несчастный случай.
— Я виноват, — сказал Тушин, беря ее теплые руки и целуя их, — будь милостива. Я готов теперь. Если хочешь, можно ехать сегодня.
Лиза нагнулась и поцеловала его в голову.
— Чем это пахнет от тебя? Ах, знаю. Смолой, порохом и травой. Расскажи, что ты делал и почему опоздал.
— Ах, Лиза, — нетерпеливо сказал Тушин, — зачем спрашивать? Соврать недолго: «Заблудился» — и делу конец. Я был сам собою последний раз в этих местах, делал то, что делал всегда. Я не принял в расчет, что ты можешь подумать, будто со мной несчастье, — в этом я виноват.