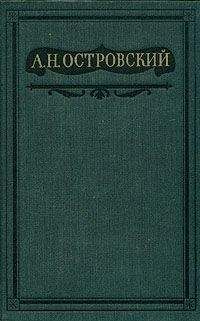Ал Малышкин - Люди из захолустья
Я поехал домой. Самая страшная расплата ждала впереди - в обманутых отцовских глазах. Отец в то время служил приказчиком в бакалейном магазине купца и писателя-народника Владимира Порфирьевича Быстренина. Кропотливо разглядев мои отметки - за каждую ведь он платил своим горбом, - отец посмотрел на меня сквозь медные очки, сам стыдясь этой неловкой, душераздирающей минуты. "Что же это ты, а?" - только и спросил он. На первый день рождества он выпорол меня так яростно, что сам тут же свалился от сердечного припадка; выпорол якобы за самолюбие, потому что я отказался идти к хозяину Быстренину славить. Но я понимал, что это отмщалась двойка. Я ждал худшего: что меня уже больше не повезут в Пензу. Этого не случилось. Наоборот, отец перед отъездом стал необычайно ласков и смирен со мной и принес мне на дорогу два пакетика - конфет и орехов, два пакетика, в тысячу раз более щемящих, чем порка: родные как бы умилостивляли меня, они не хотели расстаться с надеждой, что вот все-таки один из ихних выучится на адвоката, или на инженера, или на доктора и озолотит и выведет из холуйского звания свое племя... Но что я мог обещать им, если Петр Эмилиевич, как мрак, неотвратимо ждал меня впереди? Отец тоже поехал со мной, решив обо всем посоветоваться с дядей, как с человеком городским и бывалым.
Советовались долго; я сидел среди их беседы, как большой.
- Нет, видно, надо дать, - после раздумья произнес отец.
Он вынул из нутряного кармана длинный кошелек. Там болтались на дне две ореховые двойчатки - для счастья, для раззавода денег. Отец порылся в кошельке и, ущемив пальцами золотую пятирублевку, вопросительно взглянул на дядю.
Дядя, покосившись на монету, замялся.
- Дать-то оно дать, только как?
Я сопоставил в уме эту нищую монетку и Петра Эмилиевича, и мне стало стыдно за немудрого отца. Какой ведь позор мог получиться!
- Не надо давать, - вступился я. - Пожалуй, он сам скоро умрет...
Я рассказал им, что успел уже узнать у одноклассников: что Петр Эмилиевич на каникулах схватил воспаление легких, которое очень опасно при чахотке, и теперь еще лежит. Оба - и отец и особенно дядя - внимательно и молча посмотрели на меня, и я перехватил внезапную дядину мысль, она не его была, моя мысль... Говорить больше ничего не приходилось. Отец уехал в тот же вечер, решив пообождать дальнейшего.
А дядя, когда я утром уходил в гимназию, собрался и вышел вместе со мной. Маленький, горбатый от работы за верстаком, он унюхал кое-что, боялся, как бы не опоздать.
- Ты мне Далматыча сюда, на улицу, позови, - попросил он, когда мы дошли до гимназии.
Далматыч был наш гимназический швейцар, старый солдат, с грозными, бровастыми очами и бакенбардами, как у писателя Гончарова. Он, для важности помешкав, спустился к дяде, и о чем они говорили, не знаю, - в этот день я в первый раз с легким сердцем растворился в мальчишечьей беготне.
Вместо захворавшего Петра Эмилиевича у нас стал временно преподавать директорский сын, студент, лупоглазый, водянисто-толстый, добрый. После первого же ответа он поставил мне четверку. Через классные окна теперь падал совсем другой свет: мир выздоравливал. Тетка все чаще со сжатыми губами моляще поглядывала на дубовый гроб. И я прикидывал его глазами: он мне казался великоватым; у меня просыпалась странная боязнь, что именно оттого, что он великоват, не случится того чуда, которого я ждал. Каждый день меня спрашивали дома, как здоровье Петра Эмилиевича, но о нем не доносилось ничего, он забыто лежал в своей квартирке, в каменном корпусе, что белел за гимназическим садом. На письменной работе, которую я успел окончить раньше всех, приключилось ослепительное: я получил пятерку по математике! Дома всей семьей читали мое письмо, носили показывать хозяину Быстренину...
Далматыч однажды поманил меня согнутым пальцем и как-то вбок, не нагибаясь, через бакенбарды, пробурчал:
- Скажи дяде, ко мне от Клейменовых-гробовщиков тоже приходили.
На следующее утро я в варежке принес ему от дяди трехрублевую бумажку и на словах поклон. Дядя велел также спросить, скоро ли будет насчет дела. Далматыч вдруг осердился и сурово ответил:
- Как бог...
Тот день начинался у нас с урока арифметики, я беспечно, как богач, раскладывал свои тетрадки. В это время командующее кряканье раздалось за дверью, и, как всегда, Петр Эмилиевич вошел, чуть кланяясь и обегая всех умными, безжалостными глазами.
Да, он появился опять, Петр Эмилиевич. Он прищурился, спросил, что мы прошли без него. Он захотел проверить, насколько успешно мы прошли, и в совершенно обезумевшей тишине раскрыл журнал.
Кого?
Я не узнал сразу своей фамилии: она была отдельная от меня, зловещая этот шипящий звук в середине, это "ин" на конце... Я поплелся к доске. Свет из огромного окна дотемна ударил мне в глаза.
- "Два путешественни-ка!" - зычно продиктовал Петр Эмилиевич.
Я стоял, не двигаясь. От напряжения учителя забил кашель. Петр Эмилиевич схватился за грудь, трясся, надувался, синел, по лицу его текли слезы. Это продолжалось мучительно долго. Наконец он отдышался и опять немощно выпятился передо мной.
- "Два путешественника..." Ну-те-с!
Я не двигался, я не мог двигаться, я глядел на него жалобно и пусто. Меня начала дергать надрывная икота.
- Что с вами? - наклонился ко мне Петр Эмилиевич.
Я увидел совсем вблизи морщинки около его глаз, не то смеющихся, не то жалеющих. Он понял все, должно быть...
Отметки он мне не поставил... Со следующего дня он опять перестал показываться в гимназии.
Наступал март; брат одного нашего шестиклассника стрелял на Соборной площади в полицмейстера Кандаурова; студента потом поймали ломовые и били. Остро пахло талым, потным снегом и - наверно, от частых разговоров об одном и том же - виселицами; и над Пензой, по горизонтам, головокружительно далеко оголились леса. В марте, как-то в большую перемену, появился в нашем верхнем коридоре Далматыч, - этого не случалось никогда. Я уже догадался, не чуя себя, бросился к нему навстречу. Далматыч поглядел на меня осуждающе, прошипел:
- Беги скорее к дяде, скажи - они кончаются.
Когда я вернулся, перемена еще продолжалась; ни особого движения, ни переполоха не замечалось нигде. Через окошко взглянул я на дядю, которого привел: в ожидании он сидел пока в садике, на диване, бородатый, похожий на монашка в мерлушечьей своей скуфейке. В кармане у него был складной аршинчик.
А вечером дубовый гроб сняли со шкафа и повезли в гимназию. Да, он оказался великоват, но дядя сказал, что надо уметь продать товар. Домашние Петра Эмилиевича в горестной суматохе едва ли что заметили.
Мы хоронили Петра Эмилиевича в мокрый, поющий и блистающий ручьями день; шли все без башлыков, с непокрытыми головами, и не было холодно. Пело два хора певчих - соборный и наш, гимназический, подымая над улицами могучую трупную грусть, которая нас, мальчишек, как-то совсем не касалась. Я был счастлив до птичьей легкости в теле, до щекотки; я чувствовал на себе сквозь шинельку материнскую теплоту солнца, и как преданно, до слез почти, любил я всех в этот день!
Мы успели узнать, что преподавателем у нас останется тот же директорский сын. Близились весенние каникулы, и теперь уже в мыслях я жадно въезжал домой, в родные улицы, победитель в сияющих пуговицах, в будущем несомненный сказочный добытчик для семьи.
Впереди, на катафалке, в ворохе колючих железных цветов, покачивался мой знакомец - гроб. Мне немного было жаль его, свидетеля моих полночных пробуждений и трепетов... С нетерпением дослушал я речь, которую директор сказал над могилой, - о том, как покойный, выходец из бедной семьи, надорвал свое здоровье еще за ученьем, самостоятельно с малых лет пробиваясь к свету, как он, несмотря на тяжелый недуг, продолжал и в гимназии трудиться над наукой, готовясь к высшему званию приват-доцента и тем, может быть, преждевременно приблизив свой роковой конец... Я торопился скорее домой, к дяде с теткой, где на общем торжестве меня ждали как главного благодетеля.
Дядя с Ваней в тот день не работали с утра. Заведенские гробы были отодвинуты в сторону, частью взгромождены на опустевший шкаф, и там на них играло солнце. Среди подметенной горницы раскинулся роскошный стол, на котором все румянилось, сытно желтело, переливалось волшебными цветами, тут и бутылки с вином, и ветчина, и сыр, и колбаса, и сардины, и, кроме всего, в огромной миске дымился борщ, покрытый малиновым жиром. Дядя завалился за стол, с котом на коленях, удовольствованный, отдыхающий, кормилец, который сделал свое дело. Рядом с ним восседал Далматыч, весь в медалях, озирая насупленными очами невиданную жратву. Тетка зачесала себе шиньон, надела черное платье с аграмантом, - она еще не пришла в себя, все время бестолково бегала из кухни к столу и обратно и улыбалась всем умоляюще, чуть не плача. По первому стаканчику выпили за усопшего, дай бог ему царствия небесного. Мне тоже поднесли рюмку вина - сладкого кагора. Я, как большой, сначала по чину отказался, потом принял - и блаженно двинулись куда-то озаренные солнцем гробы.