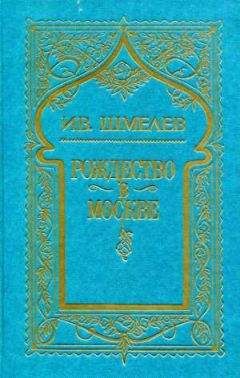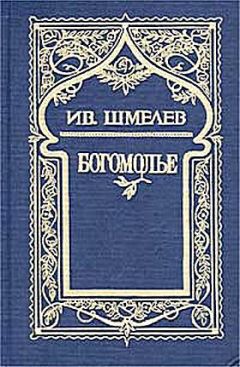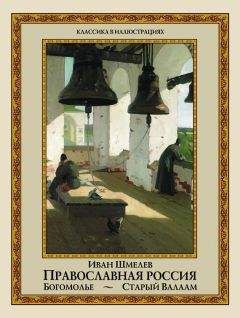Иван Шмелев - Том 8. Рваный барин
– Вы не имеете права!., это подло!.. это… это… Старая карга!!.
– Ах ты, гнида… чертенок!!..
Но я уже был в садике и кричал:
– Леня!.. Леня!.. Бабка сейчас обругала Настеньку…
Она плакала, прислонившись к березе, ее плечики вздрагивали, и голова куталась в платок. Она была такая маленькая-маленькая. Мне хотелось упасть к ее ногам, обнять узкую белую юбку, держать ее ножки, заглянуть в глаза и плакать. Но тут был Леня.
Он стоял перед ней, широкоплечий гигант, расставив свои ноги и закинув голову, и бил ладонью по стволу березы, отчего падали на нас сухие ветки.
– Старуха выжила из ума… Настя!.. Она продолжала плакать и вздрагивать.
– Ты слышал все?..
– Да… она назвала ее…
– Ступай! – крикнул Леня. – И не смей говорить…
Не смей говорить, – когда наша кухарка давно, конечно, разблаговестила по всему двору.
Вечером был большой шум на галерее. Бабка гремела ключами и крынками и кричала:
– Плюну на всех на вас!.. Завтра же уеду!..
– Хоть сейчас!., эк, угрозили: «уеду!»… Да, уезжайте!.. – кричал дядя. – Никакого от вас проку, окромя грызни, нет!..
Я не понял… Должно быть, дядя принял сторону Лени.
Гришку погнали за извозчиком, и бабка Василиса отъехала к своей дочери, куда-то на Зацепу. Но она, конечно, завтра же раным-рано вернется к своим коровам: это уже повторялось не раз. Ее ведь «ни шилом, ни видом не проймешь», – как говорили у нас на дворе.
На следующий день старичок из 3-го этажа, в мундире, с двумя крестиками на груди и даже со шпагой, очень красный и взволнованный, звонился в тот дом. Леня быль на заводе, а я в холодке клеил змей. Старичка впустили.
Что произошло там, – не знаю, но минут через пять старичок пробежал из парадного еще более красный, зацепился шпагой о приступок, и она вылезла у него под мышку.
– Хамство… хамы!.. – бормотал он, перебегая с красным платком на свое крыльцо.
– Ишь, павлина какая… распустил духи-то! – говорил Гришка. – Я, говорит, дворянин надворный… ха-ха… надворный!.. Взы-щу… Замарали мою дочь!.. А наш-то его и ожег… Вы, грит, к бабке… ха-ха!.. пожалте к бабке… ха-ха!.. Тращал все… Я, грит, на суд подам… А наш-то ему… хочь к царю!., хочь к ампиратору!.. Замарали!.. Их зама-раешь…
– Ведь бабка ее обидела, – говорю я Гришке. – Ты ровно ничего не понимаешь…
– Их обидишь!.. Они вон юбки на голову задирают, а жеребцы гогочут… Замараешь… Одна, сказывают, родила уж…
– Врешь!., ты – чистый болван!
– Вот те врешь!.. А вы опробуйте… придарьте-ка за одной какой… Ну, на Воробьевку пригласите для приману… на воздух… Не желательно ли, мол, на лихача – попробовать кумача!.. Мы поедем в маскарад, мы наденем припарад!.. что?.. И всякое с ними удовольствие получите… Бабенки распекистые!..
Эти слова всколыхнули во мне темную волну чего-то жгучего и заманчивого.
– А то – «замарали!..»
Но чистый образ красивой и белой Настеньки, ее голубые глаза и трепетные плечики вдруг ясно-ясно светлой картинкой встали передо мной, и чистая волна иных ощущений подавила неясные желания, вызванные грубыми словами Гришки.
– Э-эх, барчук!.. Уж будто и не понимаете ничего… сути-то всего… нащот девчонок? Вон Пашка-то у вас есть ведь… Ужли не звали?..
– Убирайся ты к черту!..
– Да ведь не впервой, чай… На то и господа!..
Кровь залила мне лицо. Опять забились порывы и смутные желания… Но опять чистый образ белой девушки покрыл их тихой грезой… О чем? Не знаю.
Вечером, когда я шел спать в свою комнатку, в полутемном коридоре столкнулся с Пашей. Я почему-то теперь стыжусь ее. Еще так недавно, года три назад, я спокойно ложился при ней спать, а теперь… теперь я стыжусь ее. Она притиснула меня в коридоре, обдала запахом свежего ситца и черемухового мыла и, будто нечаянно, нажала слегка мою ногу.
– Что ты?., что?..
Кровь ударила в лицо горячей волной.
– А разве вы… А Гришка мне сказал… Что вы дрожите как?.. Мальчик хорошенький… – зашептала она. – Зайти к вам?..
Она еще сильнее притиснула меня к стене, но я оттолкнул ее, весь охваченный дрожью, бросился в свою комнатку и заперся.
…На сирс-бы-ре-ной ри-ке-е… на злато-ом пе-со-о-чке…
Пел Гришка под открытым окном…
XIVВот это я понимаю!
Среди бела дня, на глазах Гришки, всего двора и даже бабки Василисы, Леня позвонился к нашим жильцам. Что произошло там, – не знаю, но, как передавала Лизка, Леня пил чай с сухарями, говорил со старичком, и старичок крепко пожимал ему руку.
– Благородный человек… образованный человек…
И сам проводил его до крыльца.
По мнению нашего двора, это хуже всякой «морали», мальчишке вскружили голову, и он роняет достоинство всей фамилии. Говорили, что теперь «уши выше головы растут и яйца стали учить курицу».
Дядя Захар мрачен, но тетя Лиза, идя как-то от обедни, встретилась с Настенькой и ласково поздоровалась. Степка высказал мнение, что он повезет ее в Питер, «пожирует» с ней и бросит, и тут же добавил, что и он не думает жениться на Польке, а на Воробьевке она уже узнала, сладки ли вишни. Как подслушала Полька и передавала на кухне, дядя говорил тете Лизе, что осенью сам поедет в Питер и «устроит там Лене мамзель», и тогда вся дурь у него вылетит из головы.
Ну, в этом я сильно сомневаюсь, потому что вижу по вечерам, как дело быстро идет вперед, и не только вижу, но и слышу… Хотя Степка и говорит, что «девку поцеловать – что плюнуть».
Как-то вечером, уже после ужина, когда мы всей семьей сидели на крыльце, и дядя Захар приказал проводить по двору лошадей, пришел кривоногий портной Кругов. Он был взъерошенный и растерянный, чуть не плакал и просил дядю Захара дозволить переговорить. Скоро мы узнали страшную новость, напомнившую мне давно испытанное, томительное чувство непонятного ужаса, когда убили царя.
Мы узнали, что у портного был «обыск», но «ничего не нашли»; что сын портного бежал за границу, находится где-то в Женеве, и что от него получено письмо. Он, как и Леня, учился в институте и жил в Питере на свои трудовые гроши. Его хотели за что-то арестовать, но не успели…
Портной, без картуза, растерянно стоял перед дядей, комкал письмо и спрашивал, что теперь ему делать.
– Теперь он уж не придет?., не воротится? – повторял портной, по привычке отыскивая иглу на груди. – Как же быть-то теперь?.. Прошение ежели написать…
– Достукался! – глухо говорил дядя Захар и чвокал зубом. – Надо было пускать!.. Достукался!
– Матерю, говорит, поцалуй… обо мне не горюй! – растерянно твердил портной. – Что ж теперь?
– Снявши голову, по волосам не плачут. Нечего теперь… И нечего тебе ходить сюда! – вдруг закричал дядя Захар. – И ты дурак, и сын твой болван!.. И нечего…
– Обо мне, говорит, не горюй. Что ж теперь?
– Ступай, ступай… И нечего тебе… Ступай к адвокату…
Леня подошел к портному, тронул его за плечо – и сказал:
– Завтра я скажу вам, что надо… Бояться нечего.
– Ступай, ступай! И нечего тебе тут! – сказал дядя резко.
Портной надел картуз и, растерянный, ушел. Мы все молчали. Леня бил тростью о камень. Равномерно стучали подковы по камушкам двора.
– Вот оно! – вдруг разрешил томительное молчание дядя. – Пожалуйте… Отец-дурак жилы выматывал, а сынок-прохвост отблагодарил…
Все молчат. Отрывисто фыркает лошадь. Плывут из углов двора тени, густеют.
– Ну, как по-твоему? Ну? Хорошо?
Леня бьет тростью о камень. Кто-то затворяет окно.
– Ведь с тобой на квартире-то стоял?
– Ну, и что же из того?
– Как что же!.. И ты не знал?.. Как, жил и не знал! Алексей! – тревожно спрашивал дядя.
– А почему вы думаете, что я не знал?
– Как! Так ты знал?! Ты знал?!.
– Здесь не место рассуждать об этом… Оставимте, пожалуйста… Все равно вы не поймете меня…
– Ну да, ну да… Где нам, дуракам… Только вот что я тебе скажу… Нечего тебе ехать туда, нечего!.. Не пущу я тебя!
– Какие пустяки!.. То есть, как не пустите? Сам поеду!.. И чего вы волнуетесь!
– Чего… Черт вас дери!.. Сам!.. Ведь голову он с отца снял… голову!..
– Я с вас, кажется, не снимаю…
– Э-эх… Много ль тебе еще-то там торчать?..
– Скоро, скоро…
И Леня опять стал бить палкой и насвистывать.
Бедный дядя Захар! Он был очень обеспокоен, долго сидел на лавочке, думал и молчал. О чем он думал? Должно быть, о Лене. Нет, он был уверен в нем, что он не сделает так, как этот «мещанинишка», которому нечего терять. Леня должен принять разрастающееся дело, ставить новый завод, поднять фамилию, жениться и продолжать род.
Долго мы в тот вечер сидели всей семьей на лавочке, сидели и молчали. Гришка и Архип водили лошадей, слышался в тишине равномерный удар копыт, довольное отфыркиванье сытой лошади, да изредка красным огнем сверкала из-под подковы искра в опустившейся темноте. Трубы черными шашками резали еще светлое небо. Там, в небе, рождались звезды; блеснула из-за края крыши точка, стала ползти, шириться, и выдвинулся ясный рог моложака-месяца.