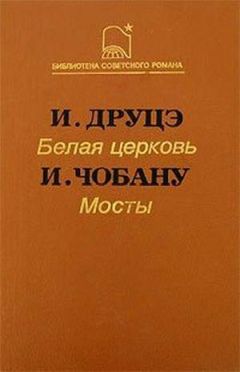Дмитрий Мамин-Сибиряк - Три конца
– Песенников!.. – скомандовал он кому-то из дозорных.
Скоро под окнами образовался круг, и грянула проголосная песня. Певцы были все кержаки, – отличались брательники Гущины. Обережной Груздева, силач Матюшка Гущин, достал берестяной рожок и заводил необыкновенно кудрявые колена; в Ключевском заводе на этом рожке играли всего двое, Матюшка да доменный мастер Никитич. Проголосная песня полилась широкою рекой, и все затихло кругом.
Не взвивайся, мой голубчик,
Да выше лесу, выше гор…
– выводил чей-то жалобный фальцетик, а рожок Матюшки подхватывал мотив, и песня поднималась точно на крыльях. Мочеганка Домнушка присела к окну, подперла рукой щеку и слушала, вся слушала, – очень уж хорошо поют кержаки, хоть и обушники. У мочеган и песен таких нет… Свое бабье одиночество обступило Домнушку, непокрытую головушку, и она растужилась, расплакалась. Нету дна бабьему горюшку… Домнушка совсем забылась, как чья-то могучая рука обняла ее.
– Не весь голову, не печаль хозяина… – ласково проговорил над самым ее ухом голос красавца Спирьки Гущина.
Домнушка не двинулась, точно она вся застыла, очарованная проголосною старинною песней.
Какое-то стихийное веселье охватило весь господский дом. Иван Семеныч развернулся и потребовал песенников в горницы, а когда круг грянул:
Уж ты, зимонька-зима,
Студеная была зима!
– он пошел вприсядку с Васей Груздевым, который плясал, как скоморох.
– Куму подавайте!.. – кричал Иван Семеныч. – Где кума?
Притащили Домнушку из кухни и, как она ни упиралась, заставили выпить целый стакан наливки и поставили в круг. Домнушка вытерла губы, округлила правую руку и, помахивая своим фартуком, поплыла павой, – плясать была она первая мастерица.
– Ах, ешь тебя мухи с комарами! – кричал Иван Семеныч, избочениваясь и притопывая ногами на месте. – Ахти… хти, хти…
Он только что хотел выделывать свое колено, как в круг протиснулся Полуэхт Самоварник и остановил его за плечо.
– Родимый мой… – бормотал он, делая какие-то знаки.
– Ну, и нашел время, – ворчал Иван Семеныч.
Круг замолк, Домнушка унырнула в свою кухню, а Самоварник шептал исправнику:
– В кабаке все трое… Вот сейчас провалиться, своем глазам видел: и Окулко, и Челыш, и Беспалый…
– Я им покажу, ангел мой…
Набат точно вымел весь народ из господского дома, остались только Домнушка, Катря и Нюрочка, да бродил еще по двору пьяный коморник Антип. Народ с площади бросился к кабаку, – всех гнало любопытство посмотреть, как будет исправник ловить Окулка. Перепуганные Катря и Нюрочка прибежали в кухню к Домнушке и не знали, куда им спрятаться.
– Я боюсь… боюсь… – плакала Нюрочка. – Все убежали…
– Христос с нами, барышня, – уговаривала девочку захмелевшая от наливки Домнушка. – Легкое место сказать: весь завод бросился ловить одного Окулка… А он уйдет от них!
– Он с ножом, Домнушка?
– Конечно, с ножом, потому как в лесу живет… Тьфу!.. Не пымать им Окулка… Туда же и наш Аника-то воин потрепался, Иван-то Семеныч!..
Замирающею трелью заливался колокол у заводской конторы, как звонили только на пожар. Вскинулась за своею стойкой Рачителиха, когда донесся до нее этот звук.
– Чу, это нам благовестят!.. – проговорил Беспалый, пряча руку за пазуху, где лежал у него нож.
– Уходи, уходи… – шептала Дуня, хватая Окулка за его могучее плечо и напрасно стараясь сдвинуть с места.
– Не впервой… – лениво ответил Окулко. – Давай водки, Дуня.
Замерло все в кабаке и около кабака. Со стороны конторы близился гулкий топот, – это гнали верхами лесообъездчики и исправничьи казаки. Дверь в кабаке была отворена попрежнему, но никто не смел войти в нее. К двум окнам припали усатые казачьи рожи и глядели в кабак.
Когда к кабаку подъехал Иван Семеныч, единственная сальная свеча, горевшая на стойке, погасла и наступила зловещая тишина.
– Берите его! – кричал Иван Семеныч, бросаясь в дверь.
В мгновение ока произошла невообразимая свалка. Зазвенели стекла в окнах, полетели откуда-то поленья, поднялся крик и отчаянный свист.
– Вяжи их, ангелы вы мои!.. – кричал Иван Семеныч, перелезая к стойке по живой куче катавшихся по полу мужицких тел.
– Готово!.. – отвечал Матюшка Гущин, который бросился в кабак в числе первых и теперь пластом лежал на разбойнике. – Тут ён, вашескородие… здесь… Надо полагать, самый Окулко и есть!
Разбойник делал отчаянные усилия освободиться: бил Матюшку ногами, кусался, но все было напрасно.
– Всех перевязали? – спрашивал в темноте охриплый голос Ивана Семеныча.
– Усех, вашескородие… – отвечал голос туляка-лесообъездчика.
Когда добыли огня и осветили картину побоища, оказалось, что вместо разбойников перевязали Терешку-казака, вора Морока и обоих дураков.
– Который Окулко? – спрашивал Иван Семеныч.
Все сконфуженно молчали. Иван Семеныч, когда узнал, в чем дело, даже побелел от злости и дрожащими губами сказал Рачителихе:
– Ну, душа моя, я тебя сейчас так посеребрю, что…
Но он во-время опомнился, махнул рукой и вышел из кабака.
– Пусть эти подлецы переночуют в машинной, – указал он на связанных, а потом обернулся, выругал Рачителиху, плюнул и вышел.
Окулко в это время успел забраться в сарайную, где захватил исправничий чемодан, и благополучно с ним скрылся.
XIV
Набат поднял весь завод на ноги, и всякий, кто мог бежать, летел к кабаку. В общем движении и сумятице не мог принять участия только один доменный мастер Никитич, дожидавшийся под домной выпуска. Его так и подмывало бросить все и побежать к кабаку вместе с народом, который из Кержацкого конца и Пеньковки бросился по плотине толпами.
Убежит Никитич под домну, посмотрит «в глаз»,[11] откуда сочился расплавленный шлак, и опять к лестнице. Слепень бормотал ему сверху, как осенний глухарь с листвени.
– Кто-нибудь завернет, тогда узнаем, – решил Никитич, окончательно удаляясь на свой пост.
В доменном корпусе было совсем темно, и только небольшое слабо освещенное пространство оставалось около напряженно красневшего глаза. Заспанный мальчик тыкал пучком березовой лучины в шлак, но огонь не показывался, а только дымилась лучина, с треском откидывая тонкие синеватые искры. Когда, наконец, она вспыхнула, прежде всего осветилась глубокая арка самой печи. Направо в земле шла под глазом канавка с порогом, а налево у самой арки стояла деревянная скамеечка, на которой обыкновенно сидел Никитич, наблюдая свою «хозяйку», как он называл доменную печь.
– Да ты откуда объявился-то, Сидор Карпыч? – удивился Никитич, только теперь заметив сидевшего на его месте сумасшедшего.
– А пришел…
– Знаю, что пришел… Михалко, посвети-ка на изложницы, все ли канавки проделаны…
Сидор Карпыч каждый вечер исправно являлся на фабрику и обходил все корпуса, где шла огненная работа. К огню он питал какое-то болезненное пристрастие и по целым часам неподвижно смотрел на пылавшие кричные огни, на раскаленные добела пудлинговые печи, на внутренность домны через стеклышко в фурме, и на его неподвижном, бесстрастном лице появлялась точно тень пробегавшей мысли. В застывшем лице на мгновение вспыхивало сознание и так же быстро потухало, стоило Сидору Карпычу отвернуться от яркого света. Теперь все корпуса были закрыты, кроме доменного, и Сидор Карпыч смотрел на доменный глаз, светившийся огненно-красною слезой. Рабочие так привыкли к безмолвному присутствию «немого», как называли его, что не замечали даже, когда он приходил и когда уходил: явится, как тень, и, как тень, скроется.
Теперь он наблюдал колеблющееся световое пятно, которое ходило по корпусу вместе с Михалкой, – это весело горел пук лучины в руках Михалки. Вверху, под горбившеюся запыленною железною крышей едва обозначались длинные железные связи и скрепления, точно в воздухе висела железная паутина. На вороте, который опускал над изложницами блестевшие от частого употребления железные цепи, дремали доменные голуби, – в каждом корпусе были свои голуби, и рабочие их прикармливали.
– Мир вам – и я к вам, – послышался голос в дверях, и показался сам Полуэхт Самоварник в своем кержацком халате, форсисто перекинутом с руки на руку. – Эй, Никитич, родимый мой, чего ты тут ворожишь?
– Ты из кабака, Полуэхт?
– Было дело… Ушел Окулко-то, а казаки впотьмах связали Морока, Терешку Ковальчука, да Марзака, да еще дурачка Терешку. Чистая галуха![12]
– Так и ушел?
– Ушел, да еще у исправника чемодан прихватил, родимый мой.
– Н-ноо?.. Ловко!
Полуэхт посмотрел на Никитича и присел на скамеечку, рядом с Сидором Карпычем, который все следил за горевшею лучиной и падавшими от нее красными искрами.
– Ну, как твоя хозяйка? – спрашивал Самоварник, чтобы угодить Никитичу, который в своей доменной печи видел живое существо.