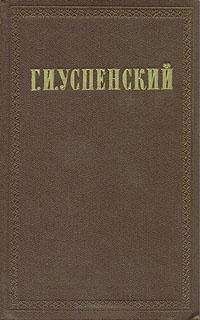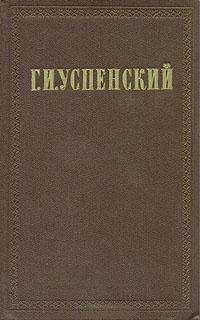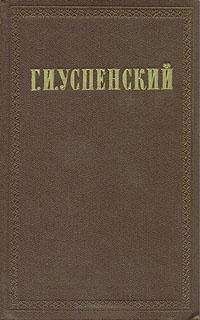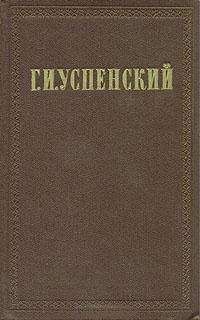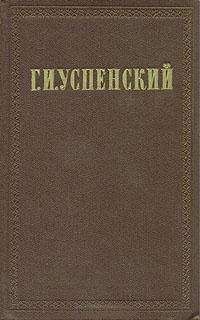Глеб Успенский - Том 4. Из деревенского дневника
— Действительно, — начал было я.
— Да знаю! Уж знаю-с!.. Вам надо регелиозно внушать, деньги получать, да чтоб благосклонно, потому ему, каналье, нос разбили в кабаке, ну он и оказался болен душевною болезнию, неизлечим… Все это нам известно, только как бы не пенять-с… Н-ну, однакож и ко дворам пора…
— Позвольте еще одну минуту, — сказал я, останавливая собиравшегося уходить гостя. — Скажите пожалуйста, как же вы теперь-то справляетесь?
— Как-е справляюсь? Деру-с!
Гость пожал плечами.
— Но ведь запрещают.
— Сколько угодно! Деру, милостивый государь, в собственную свою голову. Да будет его святая воля, всевышнего! а нельзя не драть, как вам будет угодно. Пущай жалуются, дам ответ чистосердечный! Спасибо еще, есть у нас на деревне два древних мужичка, древнейшие обыватели, имеют медали за столетнее потомство, так вот те подсобляют… А то ведь и помощников-то не найдешь… Разложишь иной раз мужичонку, а на ноги и на голову сесть некому! Кому ни скажешь — «ну, как же, стану я…» Иной раз и розги-то никто не хочет в руки взять. Ну, а уж эти старички действительно никогда не покидают, Филофей с Дорофеем… Только заикнешься: «Ну-ко, старички, утвердите дураку закон», — завсегда готовы! Потому они, как люди старого завета, понимают правила, порядки, то и видят, что по нонешним временам нельзя без этого. И не послабляют! Нет. Кричи не кричи, а засыпят, что следует… И всё с приговором: «помни правила, почитай начальников, не балуй, не пьянствуй, бог… престол… храм…» Покуда не вспухнет… Коренные старички — мало теперь таких сурьезных мужиков… Так вот, милостивый государь, как мы справляемся. Оно, конечно, не вполне благосклонно, да зато… только по этому самому и чаек-то с булочкой, с вареньицем благосклонные господа кушают-с. Будьте здоровы! Заболтался я у вас.
Гость ушел.
Но не успел я привести в порядок мысли, навеянные мне речами гостя, как в избу вошли новые посетители: один из них был мой недавний враг, пролетарий, а другой — просто молодой деревенский парень. К удивлению моему, оба они почему-то весело улыбались.
— Ловко! — сказал пролетарий. — Ай не любишь этого? — проговорил он, обращаясь к отсутствующему гостю: — что в карман-то не дали зацапать!.. Ишь какие рацеи развел…
— Палку требует! — сказал парень.
— Чив-во-о-о? На-ко вот! Пал-лку! На-ко вот, выкуси это. Нет — довольно, будет. Не такие времена! Я под окном сидел, все слышал, какие он тут разводы разводил. Дай ему, животному, палку!.. У них, у канальев, только и есть ума на все — бить!
— Правилов не понимаем! — проговорил парень.
— У них, у канальев, только и правилов, что «плати» да «ложись»… Как снял с человека штаны — это значит закону научил, правилу… А не угодно ли ежели бы палку-то нам передать в руки, так, пожалуй, и мы правила-то да разные религии прописали ихнему брату также бы без послабления. Пожалуйте-ко нам палку-то! Довольно она у вас была… Что такое, скажите на милость, за манера — драть! Как чуть поослабло — потерял закон, «ложись!» Чуть что хочешь, чтоб поприятнее — «ложись!» Давайте мне палку, я их, канальев, сам произведу! Я их научу, как брюхи растить на мужицкий карман! Давай сюда мне палку-то! Ишь какие законники, анафемы! Овса у меня нет, так меня драть! Хлеба нет — драть! Денег нет — ложись! Ну, уж это, братец ты мой, вполне глупо. Нашего брата драть, а вы брюхо себе набивать? И все мало? Все нехватает? Недостает? Всё выбирают и выбивают, и никак до корня не догребутся? Когда этому будет конец? Позвольте узнать? Я как-то сказал было одному члену: «Ваше высокоблагородие! Много ли за нами недобору?» — «Очень, очень много». А животик у него — вот эдакой, ровно как тройнями тяжел. Вот я коснулся ему к животику-то пальчиком и говорю с вежливостью: «а между прочим, говорю, ведь вот у вашего высокоблагородия в этом месте и так довольно туговато!.. Что же, ежели мы сполна взнесем, не будет вам вреда от этого?..» Так мимо ушей прошло, будто не слыхал… да! все мало… А за что? Спросить по совести? То-то и оно-то…
И тут пошли такие речи, которые ни в чем, решительно ни в чем не походили на речи только что оставившего меня посетителя. За исключением веры в то, что палка есть верное средство в затруднительных обстоятельствах, переживаемых деревней, в речах новых моих гостей было все другое, от первого и до последнего слова: другие желания, другие цели и т. д. Я не передаю этих речей в подробности, так как некоторые выражения моих гостей, говоривших в сердечной простоте, не всегда были вполне удовлетворительны в цензурном отношении. Не передаю я также множества сцен, случайных разговоров, слышанных мною то там, то сям в народной толпе и доказывавших, что во всех самых мельчайших ежедневных явлениях жизни идет переборка, трудная и упорная, старого на что-то новое. Не передаю этого потому, что картина, складывающаяся из этих мелких жизненных черт, выходит большая, многосодержательная и требует внимательной, тщательной работы, на которую я сию минуту не способен. Кроме того, в ней так много жизни, что мне, человеку изломанному, смотреть даже больно, хочется отвернуться, чтоб не мучить себя… Ограничиваюсь двумя вышенаписанными сценами потому, что хочу о себе, о своей пропавшей жизни сказать два решительно последних слова. Своекорыстие побуждает меня… И вот, только из-за этого желания поговорить о себе, из-за желания придраться «к случаю», я и беру из всего «нового», происходящего в народе, только одну черту, которая звучит особенно настойчиво, слышится повсюду, — именно мнение о необходимости палки…
Бить надо! Дать леща!.. Дайте мне палку, без палки ничего не будет!.. Дайте мне! Дайте нам! «Вас надо колотить!» — «Нет, вас…» и т. д.
Если вы прибавите к этому массу подобного же рода звуков, слышащихся далеко за пределами деревни, таящихся в бесчисленном множестве голов разного звания и состояния, то согласитесь с тем мнением, также для многих вполне справедливым, что мысль русская вообще, как говорится, «зашевелилась», что вообще происходит какое-то «пробуждение». Я, конечно, рад… Но если это пробуждение, то оно для меня решительно не по душе… Оно оскорбляет меня, какого-то там Лиссабонского, оно, наконец, дает мне право даже обидеться тою глубокою несправедливостью, благодаря которой я, человек, которому положительно противны такие «пробуждения», остался «без определенных занятий» и пропал ни за нюх табаку.
VII. Глубокая несправедливость
«Время мое, то есть время таких людей, как я, Лиссабонский, людей, стремившихся «в деревню» служить народу, — миновало. Куда нам теперь с нашими «благими» намерениями! Но если я решаюсь вспомнить об этом миновавшем времени, то единственно из чувства глубокой жалости к тому, что вот мы, Лиссабонские, пропали и пропадаем так, без толку и без всякого проку… Жалко мне, что мы не потреблены (своевременно) народной средой, жалко потому, что вместе с нами не потреблены народом и наши добрые намерения, жалко потому, что, как мне кажется, как я упорно верую, поглоти нашего брата среда народная — право, не было бы этого сумбура, этой тьмы, жестокой путаницы и, наконец, такого пробуждения… Я так думаю, я так верю, верю упорно, потому что… за что же я пропал-то?
…19 февраля 1861 года я, в числе прочих учеников — ской гимназии, с начальством, одетым в мундиры, во главе, слушал на площади губернского города N, перед собором, чтение манифеста об освобождении крестьян. Я знаю, что «проклятые вопросы» начались не со вчерашнего дня, но я также знаю, что для «массы» русского народа, к которой я принадлежу по рождению и воспитанию, проклятые вопросы сделались обязательными именно с этой минуты. Итак, я стоял в толпе и слушал манифест. Значения его, во всей его огромности, я тогда не понимал, но понимать это значение меня научила сама жизнь. «Теперь не то!» — заговорили чиновники. «Ноне не то время!» — тараторили мужики. «Не те ноне времена!» — охали купцы. Иные от этих новых времен плакали, разорялись, ожесточались, другие радовались им, приободрялись, похваливали. Что же такое случилось? Крестьян «освободили». От кого освободили? От крепостной, рабской зависимости. Что такое крепость? рабство?.. На эти вопросы мне ответила книжка, сразу осветившая то, что я множество раз имел перед глазами, но чего я не понимал. Книжка научила меня понимать, что событие совершилось во имя справедливости, что хоть и жаль, что разоряются, что жаль плачущих, нищающих, идущих по миру, жаль всех, кто дышал и жил рабским трудом и около рабского труда, но что делать! Это — жертвы необходимые и, сравнительно с массой, для которой совершен акт высочайшей справедливости, ничтожные.
Таким образом, идеи «свободы» и «народного блага» не выдуманы мною, или, вернее, нами, Лиссабонскими, в минуты праздности, а сами пришли к нам, «помимо нашей воли» стали обязательными, и не только для нас, молодых подростков, но для всего общества поголовно; и для друзей освободительных идей и для врагов они, идеи эти, сделались обязательными. Человек, который сегодня крестился в водах Днепра, должен был, помимо желания, помимо привычки, осваиваться с обязательной, новой для него христианской идеей. Он уже не мог смотреть назад, он должен был всматриваться в новое будущее, волей-неволей должен был переиначивать весь обиход своей жизни на новый образец, сообразно новой, обязательной для него идее. Такое огромное событие, как освобождение миллионов от крепостной зависимости, точно так же обязывало проникаться не старыми крепостными идеями — уже потому, что они стали старыми, отошли, остались назади, — а новыми, совершенно противоположными крепостной неправде, освободительными идеями, идеями блага народного, народного устроения, благополучия… Итак, вы видели, что новые идеи мы обязаны были принять, обязаны были проникнуться ими, и если тронулись, как говорится, «в народ», то не с злостными намерениями и не по прихоти или фанаберии, а потому же, почему весною тают снега, тронулись, «гонимы вешними лучами» новых, обязательных для всего русского народа освободительных идей… Да, государи мои, мы потому пошли к народу, что были гонимы благотворными лучами, как солнце, огромного события, освобождения… Если это — вина, то уж никак не наша.