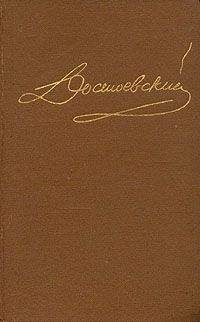Федор Достоевский - Том 3. Село Степанчиково и его обитатели. Записки из Мертвого дома.
Но, боже мой, куда я увлекся! Я всё забываю, что я фельетонист! Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Надобно писать о новостях, а я пишу об «Энциклопедическом лексиконе». Новостей! новостей! А теперь к тому же самое шумное время, середина зимы, рождество, Новый год, праздники, святки; святки! Кстати: помните ли вы стихотворение:
Перекресток, где ракитка*
И стоит и спит…
Тихо ветхая калитка
За плетнем скрипит.
Кто-то крадется сторонкой,
Санки пробегут…
И вопрос раздастся звонкой:
— Как тебя зовут?
Один из петербургских мечтателей уверял меня, что тихая грация этого стихотворения недоступна для коренного петербургского поэта* и что будто бы в Петербурге оно должно непременно перефразироваться в такие стихи:
Переулок, где Фонтанка*
Мерзлая стоит…
Против лавочки шарманка
Жалобно хрипит.
Кто-то крадется за будкой;
Фонари горят…
И вопрос раздастся чуткой:
Кто идет? — Солдат!
Это стихотворение сентиментального мечтателя. А вот стихотворение другого мечтателя, мечтателя-прогрессиста, мечтателя-деятеля, или деятельного мечтателя:
Прогресс и ум во всем в нас видны*
Все наши страсти холодны,
Мы в увлечениях солидны,
Мы в наслаждениях скромны.
За ближних мы стоим горою,
Но, чтя Вольтера и Руссо,
Мы кушать устрицы порою
Не забываем у Дюссо*.
Доходных мест, больших протекций
В душе не смея разлюбить,
На чтении публичных лекций
Талант мы рады поощрить;*
На пикнике, в разгаре спора,
Полиберальничать слегка,
И, быв в восторге от Сюзора,
К нему заехать с пикника.
Нас занимают виг и тори,
Рим и парламента азарт;*
Мы дружно хлопаем Ристори
В «Медее», «Камме» и «Стюарт».
Нас равномерно занимает:
Как изменил свой план Кавур
И что Каткову отвечает
В «Ведомостях Московских» Тур,*
Что сталось с Ицкой, нашим Крезом,*
Что говорил с трибуны — бов,
И как с привозным ut'diez-ом
В последний раз пропел Кравцов*
Средь благородного собранья,
Меж танцев — толк у нас один,
Что стоит гласного изгнанья
Из всех журналов Беллюстин*
Мы признаем, что развращает
Людей невежество и тьма,
Из нас никто уж не читает
Ни Кушнерева, ни Дюма.*
Служа для высших в жизни целей,
Мы все тайком со всех сторон
Содержим в роскоши камелий
И разоряем наших жен;
Проводники идей известных,
Мы о гуманности кричим,
И щедро в пользу школ воскресных
Поем и пляшем и едим.
Мы строим планы и гримасы,
Мы строим куры и дома —
И всё в пределах новой расы,
Прогресса, такта и ума.
Но бог с ними, с мечтателями! Ристори… Но все-таки прежде Ристори надо бы упомянуть о памятнике, который будет наконец воздвигнут Пушкину в саду бывшего Александровского лицея;* все-таки надо бы сказать хоть о книгопродавческой теперешней деятельности, хоть о воскресных школах, которые размножаются с такой быстротою;* хоть об изданиях, предпринимаемых собственно для народного чтения*. Наконец, надо бы достать, хоть из-под земли, какую-нибудь особенную, интереснейшую новость, еще неизвестную или малоизвестную другим фельетонистам, чтоб пощеголять перед ними; но… но я всё это оставляю до другого раза! О памятнике я скажу подробнее, когда его воздвигнут; о книгопродавческой деятельности скажу в своем месте. О воскресных школах мы намерены поместить особенную статью; об изданиях, предпринимаемых для народного чтения, — тоже. Что же касается до новости, никому не известной, то я непременно обещаюсь ее добыть для следующего фельетона, если только меня не предупредят. Остается теперь только одна Ристори…
Но, господа, мне кажется, что вы уже столько прочли о Ристори, столько слышали о Ристори, что вам наконец надоело читать об этом. Разумеется, не надоест смотреть на Ристори, и мы вот что думаем: мы лучше наглядимся сперва на нее, во всем ее репертуаре, во всем, что она намерена играть в Петербурге, и тогда… И тогда мы дадим вам о ней подробный и окончательный отчет. Итак, и об Ристори кончено. До свидания, господа, до следующего раза. Тогда я, может быть, еще что-нибудь увижу во сне, и тогда… Но до свиданья!
Ах, боже мой, и забыл! Ведь я хотел рассказать мой сон о грациозной бедности. Ведь я обещался рассказать этот сон в конце фельетона. Но нет! я и его оставлю до будущего раза. Уж лучше всё вместе. Каков рассказ будет — не знаю, но история, уверяю вас, интересная.
Примечания
В настоящий том вошли повесть «Село Степанчиково и его обитатели», «Записки из Мертвого дома» и фельетон «Петербургские сновидения в стихах и в прозе», написанные и опубликованные Достоевским в 1859–1862 гг. Это было время возвращения писателя в литературу после вынужденного десятилетнего (с 1849 г.) перерыва, время выработки его новых творческих позиций.[17] На каторге Достоевский, лишенный возможности писать, не переставал внутренне готовиться к дальнейшему творчеству. Он писал А. Н. Майкову: «Я создал там <в Омске. — Ред.> в голове большую окончательную мою повесть. Я боялся, чтобы 1-я любовь к моему созданию не простыла, когда минут годы и когда настал бы час исполнения <…> Но выйдя из каторги, хотя всё было готово, я не писал. Я не мог писать» (письмо от 18 янв. 1856 г.). Позднее, в 1859 г., в письме к M. M. Достоевскому Федор Михайлович, сообщая о замысле нового романа, вспоминал: «Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения» (письмо от 9 окт. 1859 г.). Существует несколько свидетельств о том, что Достоевский вел какие-то записи, находясь в тюремном госпитале.[18] По всей вероятности, это была первая из дошедших до нас записных книжек писателя, так называемая «Сибирская тетрадь».[19] Л. П. Гроссман безоговорочно называет «Сибирскую тетрадь» «единственным памятником литературной работы Достоевского в Омске».[20] Пословицы, поговорки, присловья, отрывки тюремных легенд, народных песен, обрывки разговоров, точно зафиксированные здесь писателем, доносят до нас многоголосье окружения Достоевского, волнуют живой непосредственностью.
Подлинность фольклорного материала «Сибирской тетради» подтверждается наличием буквальных совпадений и близких вариантов в известных фольклорных сборниках.[21] Впоследствии записи «Сибирской тетради» стали для Достоевского своеобразным конспектом, где за отдельными фразами скрывались жизненные ситуации, характеры, рассказы каторжников. Писатель широко пользовался своей «тетрадкой каторжной» (так названа она в его записной тетради 1873–1874 гг.). Достоевский обращался к цитированию «Сибирской тетради» 560 раз. причем более половины случаев падает на «Записки из Мертвого дома», а на «Село Степанчиково» 55 случаев.[22]
По выходе из каторги в первом же письме к брату, отправленном неофициальным путем, Достоевский писал: «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! <…> На целые томы достанет» (письмо от 30 янв. — 22 февр. 1854 г.),
В написанном одновременно с предыдущим, глубоко задушевном и философски значительном письме к Н. Д. Фонвизиной Достоевский с грустью говорит, что «благ земных» не желает и что надо ему «только книг, возможности писать и быть каждодневно несколько часов одному». Однако в Семипалатинске у рядового 7-го Сибирского линейного батальона руки были все еще скованы: ученья, смотры, «фрунтовая служба», караулы — времени совсем не оставалось, кроме того, бесконечный лихорадочный роман с М. Д. Исаевой «увлек и поглотил» его «совершенно» (письмо А. Н. Майкову от 18 янв. 1856 г.). Тем не менее на протяжении 1856–1858 гг. Достоевский в письмах постоянно обсуждал с братом, А. Н. Майковым, Е. И. Якушкиным замыслы будущих произведений. Во-первых, это «главное произведение» — «большой роман», задуманный в трех книгах и объединенный «приключениями одного лица в различные эпохи его жизни» (письмо А. Н. Майкову от 18 янв. 1856 г.); во-вторых, «комический роман», состоящий из «отдельных приключений», которые писатель в 1856 г. сшивает «в целое»,[23] кроме того, «роман из петербургского быта вроде „Бедных людей“» (письмо М. М. Достоевскому от 3 ноября 1857 г.), замыслы ряда патриотических статей и статьи об искусстве (письмо А. Е. Врангелю от 13 апр. 1856 г.). Одновременное сосуществование нескольких перекрещивающихся замыслов свидетельствует, что, скорее всего, все они были лишь в голове писателя или в виде планов и отдельных набросков. Дальше работа не продвинулась. Достоевского волновал в это время вопрос о получении разрешения на публикацию своих произведений. В марте 1856 г. он писал семипалатинскому другу, прокурору А. Е. Врангелю: «…я не верю, слышите: не верю, чтоб этого нельзя было выхлопотать» (письмо от 23 марта 1856 г.). Написанные Достоевским в 1854–1856 гг. стихотворения «На европейские события в 1854 году», «На первое июля 1856 года» и «На коронацию и заключение мира»,[24] пересланные официальным путем в III Отделение и военному министру, свидетельствуют об отчаянных попытках писателя вновь вернуться в литературу. Достоевский обращается к своему соученику по Инженерному училищу герою Севастопольской обороны генералу Э. И. Тотлебену с просьбой ходатайствовать о «возможности выйти из военной службы и перейти в статскую», при этом он подчеркивает: «…не службу ставлю я главною целью жизни моей. Когда-то я был обнадежен благосклонным приемом публики на литературном пути. Я желал бы иметь позволение печатать <…> Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным» (письмо от 24 марта 1856 г.). Однако все попытки оставались безрезультатными. Лишь в апреле 1857 г. Достоевскому были возвращены права потомственного дворянина и тем самым дано разрешение печататься.