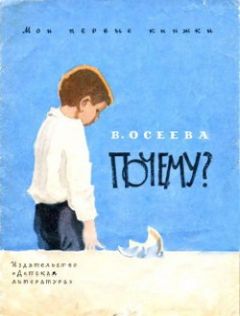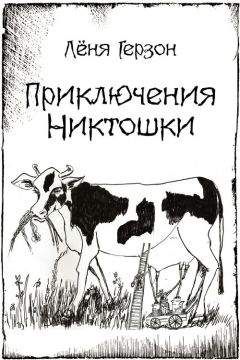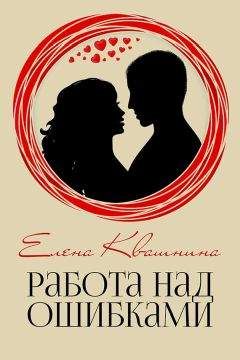Иван Шмелев - Том 7. Это было
Влияние Белинского держало его непрочно и недолго. После первых испытаний сибирской каторги, после встречи с народной Россией, пусть каторжной, – и это еще важнее, – а, главное, после «встречи» с народным, «русским» Христом, Достоевский нашел подлинного себя.
Начало этого возрождения, воскресения, – показано им в бесспорно автобиографическом романс – «Записки из Мертвого Дома», «Преступлении и Наказании»; в «Идиоте»…
«Пусть истина у него, – писал он, разумея Белинского, тут же; после каторги, племяннице Ивановой, – но я предпочту остаться со Христом, вне истины».
«Эшафот», а за ним каторга и солдатчина – не могли пройти бесследно: здесь исток его величайших творений. О напряженности переживаний его за одну минуту до неминуемой смерти у столба волнующе свидетельствует рассказ кн. Мышкина в «Идиоте», – бесспорный слепок с события 22 декабря 1849 г. в Санкт-Петербурге. В письме к брату Михаилу Достоевский описывает это событие, в самый день «казни»:
«Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться ко Кресту, переломили над головами шпаги и устроили нам предсмертный туалет – белые рубахи. Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих: в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моем, и тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Наконец, ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что Его Императорское Величество дарует нам жизнь. Затем последовал настоящий приговор…»
Государь смягчил одному Достоевскому срок каторги:
«Отставного поручика Достоевского, за участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, исполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу и крепость на восемь лет».
Государь положил резолюцию:
«На четыре года, а потом в солдаты».
* * *Жизнь тут же, после спасения от смерти, посылает новое испытание, нравственное.
После разрешенного свидания с братом, в Рождественский Сочельник, за несколько часов до отправки на каторгу, Достоевского заковали в кандалы. «Ровно в 12 часов ночи, – писал он брату, – то есть ровно в Рождество. В кандалах было фунтов 10, и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на четырех санях, фельдфебель впереди, мы отправились из Петербурга».
Улицы были освещены, в окнах горели елки. Проехали как раз мимо квартиры брата, в том же доме, где жил редактор-журналист Краевский. У Краевского была елка, и на ней веселились дети брата Достоевского, о чем он знал в разговоре последнего свидания.
«Я как будто простился с детенками…» Ночь глухая, трескучий мороз, впереди темная Сибирь. – «Я промерзал до сердца…» – «Грустна была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах, была метель. Мы вышли из повозок, – это было ночью, – и, стоя, ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег, метель; граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, позади все прошлое, – грустно было, и меня прошибли слезы…»
Через 18 дней были в Тобольске. Тут жена ссыльного декабриста Фонвизина подарила Достоевскому маленькое Евангелие: Достоевский хранил его под подушкой четыре года каторги. Ровно через месяц по выезде из Петербурга он прибыл в Омскую каторжную тюрьму, 23 января 1850 г.
Каторга изображена Достоевским в романе «Записки из Мертвого Дома». Это роман-автобиография, – подлинный ад, беспросветный ужас… и – свет. Описание каторжной бани затмит все ужасы дантовского «Ада». В этом аду Достоевскому каждый миг угрожала насильственная смерть от каторжан, люто ненавидевших бывших бар, даже в «аду» оставшихся для них «барами».
Но не взирая на все, в этом аду был свет, в этом аду был Христос! Здесь впервые увидел Его Достоевский, почувствовал в каторжных сердцах, и вынес Его с собой из каторжного ада. Впервые, в этом аду, нашел подлинный народ и восхитился им.
«Преступники – самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего… что за чудный народ!..» – писал он брату.
Сослав Пушкина в родовое село Михайловское, «к няне», Николай I сберег его для России: в ссылке написаны шедевры великого поэта: в ссылке Пушкин узнал народ и, узнав, поклонился правде его. Сослав Достоевского на каторгу, Николай I открыл России Достоевского: через каторгу Достоевский нашел и полюбил свой народ, в народе обрел Христа, и через Христа создал величайшие произведения – свои романы-трагедии. Вот его признание: «там я судил себя».
О своем «воскресении из мертвых» он так свидетельствует в письме к Н. Д. Фонвизиной:
«…я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но, с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной».
Роман «Идиот» не был бы создан, если бы Достоевский не встретил на каторге, в народной душе, «русского», «своего» Христа, тайно хранимого каторжным народом, невидимого, никогда не поминаемого, оберегаемого до угроз смертью. Этого народного Христа встретил кн. Мышкин в своих странствиях по России, узнал в радостном лице молодой бабы, увидевшей первую улыбку своего ребенка – и «Вышел на проповедь». Эта встреча со Христом стала источником света во всех главных творениях Достоевского, созданных после каторги. По его признанию, – письма к Ивановой и к другим лицам, – «цель и повод к созданию романа „Идиот“» – «дать самого прекрасного, самого совершенного человека»,
* * *17 февраля 1854 г. Достоевский вышел из Омской каторжной тюрьмы.
Об этом важнейшем событии своей жизни он пишет своему брату:
«…Кандалы упали. Я поднял их. Мне хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз… – „Ну, с Богом! с Богом!..“ – говорили арестанты отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами. Да, с Богом. Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых… Экая славная минута!..»
В этом отрывисто-грубоватом и торопящем – «с Богом! с Богом!» – слышится как бы скрытый страх: как бы не опомнилось, не воротилось «кандальное». В этом – страстное, сокровенное выражение жажды свободы, воли, хотя бы для другого, хотя бы для их врага.
Где же тут налганное на русский народ, что он не понимает свободы и не любит ее, не дорожит ею? что он и у других народов хотел бы отнять ее?.. Достоевский после не раз заявлял, – в том же романе «Записки из Мертвого Дома», – что дороже воли для русского человека нет ничего, что он эту страсть к воле проявляет порой дико, всем рискуя, до жизни, лишь бы обрести эту волю, лишь бы денек пожить «своею волей».
Показательна сцена с тюремным орлом, – в «Записках из Мертвого Дома». Арестанты отпускают его на волю и долго смотрят вслед. Орел не может лететь, у него перебито крыло. Он бежит, ковыляя… «И не оглянется!..» – «Ни разу-то, братцы, не оглянулся, бежит себе!..» – «Волю почуял!..» – «И не видать уж, братцы!..»
Четыре года с неделями закован был в кандалы Достоевский, в железные и душевные: «эти четыре года!., я был похоронен живой и закрыт в гробу…»
Из каторги он был тотчас же переслан в Семипалатинск, глухой сибирский городишко, в гарнизон, в солдаты. Теперь начинается новая «голгофа», томление полного душевного одиночества, бессрочного. К счастью, он нежданно встретил будущего друга: как раз в 1854 г. в Семипалатинск прибыл из Петербурга новый окружный прокурор, барон Врангель. Он знал Достоевского по роману «Бедные люди» и привез ему посылку и письма. Скоро они стали друзьями, совершали прогулку, ловили рыбу, растягивались вечерами на траве, на берегу реки, созерцали полное звезд небо. Достоевский, по письмам бар. Врангеля к своему отцу, – «весьма набожный, болезненный, но воли железной». Созерцание небесного свода, по словам Достоевского, – «наводило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества как-то смиряло наш дух». Бар. Врангель ввел своего друга в дом военного губернатора и – что было особенно важно – познакомил с семейством батальонного командира.
В Семипалатинске Достоевский встретился со своей будущей женой Исаевой… Начались тяжкие испытания «безумством любви». Тут впервые узнал Достоевский образец «инфернальной женщины»… Вторым, еще более жутким образцом явилась для него, уже после Сибири, Мария Суслова. Без этих «образцов», без этих «женских встреч» – не было бы его трагических романов: Достоевский узнал, после каторжного ада, новый, – кажется, еще более ужасный.