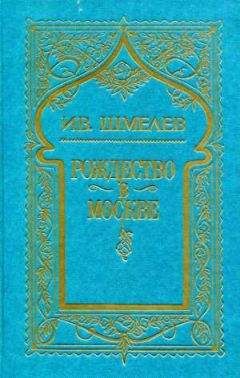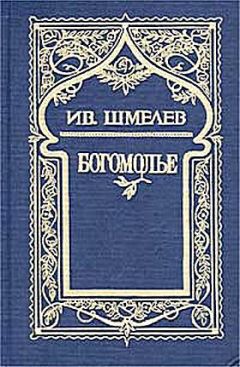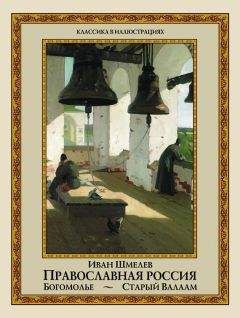Иван Шмелев - Том 8. Рваный барин
– Выпьем-ка за здоровье твоего Фрица, может, и убьют скоро?.
Она рванулась от него как шальная.
– Не смей! тьфу! не смей!! говорить так… глупо!
– А сама любишься, кошечка. – шептал ей, крепче захватывая ее, Иван, – Да не корежься… да не., вот вы… немки, какие… все чтобы чисто-гладко… по вашему закону выходило… Да ты послушай… дрозд-то как… заливается…
Она осталась, довольная. Ушла, заслышав только тяжелые шаги за ригой: шел, сопя, за своим дроздом Браун – снять на ночь.
IVНаступил май – третий май немецкого плена. Уже два раза приезжал на побывку Фриц. Два раза приезжал Генрих И всякий раз Браун резал по поросенку. По две недели ели они до отвалу и много выпивали пива.
В этот май так случилось, что приехали оба сына разом – на одну неделю. Опять закололи поросенка и двух гусей, хоть и жалела немка. Да важное было дело: дали Генриху новый чин, и Браун решил устроить помолвку его с Терезой. Да и подходила будто к концу война. Шли победные праздники на деревне, и то и дело выкидывали на въезде победный флаг.
На помолвку приехали родные: и из Грюнвальда, и из Вербина, и «из-за горы». Все тяжелые немцы и широкие немки и много и крепких и тонких девушек в светлых платьях, с цветными бархотками на шейках Генрих ходил среди них в новом мундирчике, с новой саблей, потому что был теперь новый – фендрик. Приехал на трезвонистом шарабане Терезин дедушка из далеких мест, как яйцо лысый, в столетнем зеленом кафтане с жестяными пуговицами в ладонь, привез в подарок перламутровую шкатулку и белого кота-ангорку.
Шумно сыграли помолвку у Виндэ, наколотили для будущего счастья гору посуды всякой Слушал Иван от риги, как звенело «счастье» Сидел и думал: «Расколотить бы мне главную посуду, тому – на счастье!» Захватило тоской Пошел на погребицу, поковырял гвоздочком замок немецкий, вытянул литра три темного пива – посветлело. Пошел через улицу ко двору Терезы, постоял – послушал, все еще бьют посуду. Пошел к Браунову двору, поковырял гвоздочком – и посветлело. Пошел опять слушать, как набивают Терезе «счастья». Ходил туда и сюда долго, пока кончили бить посуду Уже ничего не помнил.
С утра стали у Брауна играть на скрипках под сиренью – горбатый Мориц и паренек из аптеки. Ходил просить разрешения Браун – в отступление от военного закона. Пришла телеграмма о новой большой победе – разрешили.
Съели гости целого кабана, гусей две пары и кроликов два десятка. Выпили сорок литров пива и четыре бутылки шнапса. Сытые и веселые ходили. Портрет кайзера обвили елочкой и дубовыми ветвями, грозились перетопить все вражьи пароходы, захватить всю Россию, до Сибири… Скрипел старый дедушка Терезин:
– Хочу теплую шубу… из русского медведя!
Обещал ему Генрих и шубу, и лисью шапку, а маленькой Терезе – розового шелка из Лиона.
Слышал Иван, о чем говорили немцы, свое и свое думал: «Эх, разбить бы ей главную посуду!»
Танцевали на тесной площадке садика, где зацвели ранние левкои. Танцевали свой «шибер». Фриц-кабан плясал с пышно разодетой Тильдой – в золотистое платье с розовым бантом сзади. Генрих-франт – с тихой овечкой – Терезой. Не было совсем парней, пришел только Клюпф, пьяный солдат, стучал по столу кулаком, грозился:
– Из француза красное вино пущу… из англичанина портер черный! Бей всю Европу!
Смеялись над Клюпфом: «Да мы же, немцы, самые первые в Европе!»
Знать ничего не хотел пьяница Клюпф, орал:
– Германия выше всей Европы! Хох! хох!!
Остряк был Клюпф-пьяница, шорный мастер, все гоготали на его речи, стучали палками, а Терезин дедушка похлопывал в сухонькие ладошки-дощечки.
Было воскресенье, вечер. Иван сидел во дворе, у сарая. Слушал, как визгливо-раскатисто хохотала Тильда. Она выпила много пива и все приставала к усачу Фрицу:
– Ты уж и осовел, мой Фрицик? Не пей так много, мой петушок. Давай станцуем!
Клюпф топтался по дерну и выл-хрипел свою солдатскую песню:
Из быка ремней нарежу,
Поясов друзьям намну!
Вытолкали его из сада за непристойность.
Видел Иван, как франт-фендрик нашептывает Терезе, как краснеет стыдливая овечка. Вспоминал – посмеивался в усы: «А если… убьют?..» Хорошо понимал, как напевал Генрих песенку, подавая овечке белый цветок левкоя:
Ах, любимая блондинка,
Чист и нежен образ твой.
А возьмешь цветочек в ручку,
Станешь прямо ты святой!
Тяжело было Ивану с самого утра. С утра взглянула на него Тильда, будто в первый раз его видит, крикнула:
– Почисти сапоги Фрицу!
Взял Иван сапоги из рук, поглядел ей в бесстыжие глаза, сказал дерзко:
– За свои башмачки ты мне хорошо платишь, мадама, а за эти, со шпорами, заплатишь лучше?
Огнем залилась Тильда, вырвала сапоги, умчалась. Целый день дразнил его розовый бант Тильды и ее заливной хохот. Томило его, как вся беленькая Тереза сидит неотлучно с франтом, подпевает его стишкам-песням. Не выходило из головы навязавшееся с обеда, как услыхал впервые:
Ах, любимая блондинка!
В этот веселый вечер дрозд висел на сарае и свистал особенно беспокойно-лихо. Слышал Иван в его свисте знакомое: «И шумэ, и гудэ-э». Томила его Дроздова песня. Слушал трескучие голоса немцев… Оби-да! Взяли его всего, взяли его работу, а все чужой. Скотина милей хозяину! Сегодня Браун опять пытал, – не останется ли совсем в Грюн-вальде? А на праздник и не пригласили, даже не угостили гусятиной и не отпустили пива! И эта корова Тильда: то каждую ночь совалась… а теперь так и жмется к своему рыжему усачу и бант нацепила на свое место! И Тереза эта… овцой смотрит, а своего не упустит. Нечего с ними и канитель разводить. Вот уедет этот – позову в хмельник, разобью посуду! Пусть отпразднует свой девишник…
И опять услыхал Иван:
А возьмешь цветочек в ручку,
Станешь прямо ты святой!
Сидел Иван на точильной плите, позванивал в раздумье заветным рублем о камень. Прислушивался к серебряному звону. Наводил этот тонкий звон на думы ему родное. Да-шурку-сестру припоминал, как вязала в избе кружева на коклюшках, заработала этот рублик… мать-старуху… Другой год лежит старуха на погосте. Прошинских коней вспоминал заводских, жеребцов с кровяными глазами… Собачонку Лиску, вольные луга Скворцовки, росяные покосы, вешние соловьиные раскаты… как ходил по лугам с гармоньей, как хороводился с девками в овражках…
Прислушивался Иван к тонкому звону, думал: «Может, и в Расею теперь скоро». Поднял голову – дрозд на него свистит – смотрит.
Снял клетку, отворил дверку – лети, мать твою так-то!
Высунул голову дрозд, поводил туда-сюда желтым носом – пырх! Сел на сарай, завел все то же: «И шумэ, и гудэ!» Не слетел, опять в клетку забился.
– Дурак! Выучил тебя немец месту!
Услыхал хохот, подумал злобно: удивить бы их чем, чертей!
Вспомнил – поить коров скоро. Придется Тильде снять свою красу, подоткнуть подол да звонить по ведрам.
«Взять да в стойло за ней, да при всех и залапить… во бы штука! А то принести ее кирсет энтот, крикнуть: на койке-то у меня ночью забыла! вот бы штука! Эх, подивить бы их, чертей, чем!»
Поднял голову на шаги: пьяница Клюпф приглядывается. Смотрел Клюпф, как звякал Иван рублем.
– Гей! – поманил его Клюпф.
– Гей! – поманил Иван.
– Покажи, приятель! – опять поманил Клюпф.
Вынул Иван кисет, спрятал рублик, «чубчики» засвистал.
Топнул Клюпф, показал кулак, гаркнул:
– Ах ты свинья!., русская свинья, грязная!..
Никогда Иван за словом в карман не лазил: пустил Клюпфа на все лады – натрафился за три года. Полез Клюпф на Ивана, да подошел сам Браун и ухватил Клюпфа. Шумел Клюпф, грозился брюхо вспороть Ивану.
Уговорил его Браун плюнуть, сказал:
– Хороший Иван работник, совсем и не похож на дураков и лентяев русских!
Задело Ивана за живое. Встал во весь рост гвардейский, как на смотру, крикнул:
– Врешь, герр Браун! Как был русский, так и остался русский, а не кабан, не немец! На чужом горбу не выезжаю! Не грошовник!
Тут все загалдели и застучали палками кто во что. Унял Браун компанию, сказал мирно:
– Не надо переходить меру. Будем, друзья мои, праздник праздновать. Выпили мы все немножко.
– Все, да не все! – крикнул Иван. – На все то еще время придет, – пить будешь!
По-своему крикнул – не поняли его немцы!
– Уложу его на лопатки!
Знали все быка-Клюпфа: всех укладывал на лопатки. Закричали немцы:
– Зо! Зо-о!! Выходи, русский Иван… он тебя в две минуты положит на лопатки!
Стало всем опять весело, закричали Клюпфу: хох-хох!
Увидал Иван, что смеется Тильда, сверкают у нее жадные зубки-кусачки; увидал и Терезу-овечку: робко выглядывает из-за спины жениха, пытает стеклянными глазами. Хлынуло на него ражем.