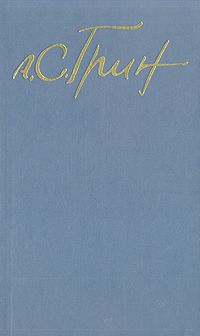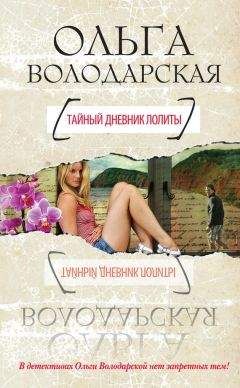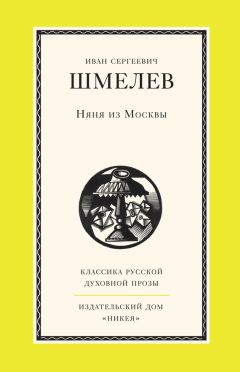Александр Грин - Том 5. Романы 1928-1930
Все призадумались.
– Вот видите, – сказал Стомадор Галерану, – обстоятельство это не пустяковое.
– Эта дверь куда открывается? – Галеран пояснил свою мысль движением руки от себя и к себе. – Иначе говоря, если человек выходит из лазарета, то дверь распахивается налево, к воротам, или направо?
– На… лево, – сказал, подумав, с уверенностью Ботредж. – Да, налево, так как я работал в садике и видел ее. А мой глаз, как – положительно – фотография.
– Это очень важно, чтобы дверь, открываясь, закрывала собой идущего человека со стороны часового. – Галеран снова принялся думать. – Ну, теперь скажите, можете вы помочь рыть?
– Пожалуйста, я могу.
– Он силен, – сказал Стомадор, – только на вид костляв.
Тогда Ботредж поинтересовался общим составом плана, и Галеран рассказал ему все предположения, какие были обсуждены уже с лавочником. Все это было только начало. Более важные вопросы – о распределении дежурств в решительную ночь побега, о том, кто будет работать, куда складывать выбранную из подкопа землю, – возникли сами собой. Без Факрегеда ночью в лазарете не обойтись – таково было общее мнение, переданное для разведки и разработки Ботреджу, при помощи Катрин Рыжей и Кравара, начавшего под ее влиянием оказывать контрабандистам все более важные услуги. Галеран хотел еще измерить емкость сарая, пустых ящиков и бочек, загромождавших маленький двор лавки. Сделав бумажный метр из старой газеты, Галеран удалился, сказав:
– Чем больше мы разузнаем за эту ночь, тем легче будет потом.
Когда Галеран вышел, Стомадор и Ботредж опорожнили по стакану перцовки. Увидев навощенные палочки, Ботредж собрал их в кулак, поставил снопом и сразу разжал руку. Палочки упали друг на друга, как горсть макарон.
– Отец? – спросил он, давая знак начинать игру.
– Такой же, как я.
Стомадор низко нагнулся над столом, высматривая свободно лежавшую палочку или упавшую так, чтобы снять ее можно было, не шевельнув ни одной другой. Если палочка, прикасающаяся к снимаемой, хотя чуть трогалась, игрок уступал очередь, а выигравшим считался тот, кто больше снял палочек. Это была больная, воровская игра, требующая совершенного расчета движений.
Вначале Стомадор убрал из кучки, где откатывая, где нажимая один конец, чтобы вскинулся вверх другой, пять штук, затем ему предстала задача разделить две палочки, прильнувшие параллельно одна к другой. Он потянул ближайшую к себе за середину концом пальца, но не сумел резко отдернуть ее, и вторая палочка шевельнулась.
– Играй ты. Слушай, нам нужен третий, двое не могут рыть и поднимать грунт вверх. Переговори с Даном Тергенсом.
– Лучшего работника не сыскать, – ответил, таща палочку, Ботредж. – Но только Дану будет обидно, что его брата повесят.
– Вы, Ботредж, должны знать, – возразил Стомадор, для которого смена «ты» на «вы» заменяла интонацию, – что, если Гравелот убежит, будет поднято скандальное дело против Ван-Конета, и тогда всех пощадят. Сидней богат, адвокаты и газетчики начнут ему помогать. Теперь же ничего сделать нельзя, ходы заперты.
– Я поговорю, – Ботредж снял восьмую палочку, а на девятой ошибся. – Но главное все-таки не в том, – вздохнул он. – Стоп, вы тронули!
– Ничего не двинулось, что ты врешь!
– Я не слепой.
– Играйте, если вы так упрямы, – сказал с досадой лавочник. – Это у вас глаза качаются. На что мы играем?
– На пачку папирос, дядя Том. Главное, я говорю, заключается в Факрегеде. Единственно, если он будет дежурным по лазарету.
– Придется подумать.
– Думать должен он, а вы хлопочите теперь, чтобы как-нибудь поспать днем. Днем рыть не придется.
Галеран вернулся очень довольный исчислениями. Хотя это был расчет грубый, он все-таки убедился, что сарай легко вместит двадцать кубических метров разрыхленного грунта. Считая горизонтальные и вертикальные ходы подкопа общей длиной девятнадцать, даже двадцать метров, при высоте один с четвертью метр на один метр ширины, получалось около двадцати пяти кубических метров плотной массы; разрыхленная, она увеличивалась в объеме. Эти тридцать пять – сорок кубических метров отработанной почвы можно было уложить в сарай, а излишек разместить по бочкам и ящикам.
Таким образом, план подкопа начал принимать реальные очертания, и его основные линии проступили довольно явственно. Рассказав о своих вычислениях, Галеран поднял вопрос о приобретении инструментов. Как только заговорили об инструментах, Галерану и Ботреджу одновременно пришла весьма существенная мысль – обстоятельство, о котором, странным образом, не подумали вначале, хотя, не решив его, трудно было надеяться на успех: что представляет собою почва между тюрьмой и лавкой?
– Дядя Стомадор, – воскликнул Ботредж, – мы собираемся долбить камень. Неужели вы и я забыли об этом? Под нами известняк.
– Быть не может! – сказал Галеран, вопрос которого о свойствах почвы так неожиданно предупредил Ботредж.
Стомадор, значительно поведя глазами, поднялся и вышел, захватив нож. Галеран, сцепив пальцы, тревожно молчал. Ботредж, широко раскрыв глаза, смотрел на него и, сильно затягиваясь, курил.
Подрыв ножом небольшое углубление, Стомадор возвратился и бросил на стол беловато-желтый кусок.
– Рыхлый травертин, – облегченно заявил он, вытирая вспотевший лоб. – Можно резать ножом.
Галеран внимательно осмотрел камень. Действительно, это был пористый раковинный известняк мягкой формации, неправильно именуемый каменщиками «травертин», плотностью чуть крепче штукатурки.
Щели ставен начали бледнеть; приближался рассвет первого дня упорной борьбы за жизнь Тиррея. Ботредж ушел, а Галеран сел писать заключенному о надеждах и затруднениях. Это была его первая записка узнику.
Из осторожности он подписался «Г», а все тайное просил Стомадора передать на словах через Факрегеда, когда тому представится случай.
Глава XI
Никогда Давенант не думал, что его судьба обезобразится одним из самых тяжких мучений – лишением свободы. Он старался, как мог, твердо переносить тройное свое несчастье: заключение, болезнь и угрозу сурового наказания, совершенно неизбежного, если не произойдет какого-нибудь внезапного спасительного события. Даже его мысль не могла быть свободна, так как, о чем ни думал он, стены камеры и порядок дня были неразлучно при нем, от них он не мог уйти, не мог забыть о них. Сон, единственная отрада пленника, часто напоминал о тюрьме видениями чудесного бегства; тогда пробуждение ночью при свете затененной электрической лампы над дверью было еще мучительнее. Сон повторялся, бегство разнообразилось и, счастливо оканчиваясь, уводило его в сады, соединяющие над водой прекрасные острова, или Давенанта ловили. Он во сне видел себя в тюрьме, думая: «Это сон…» – и просыпался в тюрьме.
Однажды снилось ему, что голос его обладает чудесными свойствами, – звук голоса заставляет повиноваться. Давенант постучал в дверь. «Отоприте», – сказал он надзирателю, и тот послушно открыл дверь. Давенант вышел из лазарета и подошел к воротам, зная, что никто не осмелится сопротивляться голосу, звучащему как тайное желание самого повинующегося этим его приказаниям. Ворота открылись, и он вышел на солнечную улицу. Это была та улица, где жил Футроз. Вскоре Давенант увидел знакомый дом, и сердце его забилось. Его отец, посмеиваясь, открыл ему дверь, говоря: «Что, Тири, пришел все-таки?» Давенант побежал к гостиной. Она была дивно освещена. Роэна и Элли сидели там нисколько не старше, чем девять лет назад, о чем-то советуясь между собой; они рассеянно кивнули ему. Что-то тяжелое, серое привязано было к спине каждой девочки. «Это я, – сказал им Давенант, – будем стрелять в цель». – «Теперь нельзя», – сказала Рой, и Элли тоже сказала: «Нельзя, мы должны носить камни, и, пока правильно не уложим их, не будет у нас никакой игры». – «Бросьте камни, – сказал Тиррей, – я – голос, и вы должны слушаться. Бросьте!» – крикнул он так громко, что проснулся, и, ломая, калеча видение, проникла в него тюрьма.
С первого же дня этой погребенной в стенах жизни Давенант начал думать о побеге. Он был в городе, где родился и вырос. Воспоминание знакомых мест, домов, улиц, которые находились вблизи него, но оказывались недоступными, деятельно толкало его ум к размышлению о возможности бежать.
Едва ли чья фантазия так изощряется в комбинациях и абсурдно-логических построениях, как фантазия узника одиночной камеры. Одиночество еще более воспламеняет фантазию. Заключенные общих камер имеют хотя бы возможность делиться своими соображениями: один знает то, другой – это, взаимное обсуждение шансов делает даже невыполнимый замысел предметом, доступным логическому исправлению, дополнению; критика и оптимизм создают иллюзию действия; но одиночный арестант всегда только сам с собой, его заблуждения и ошибки в расчетах исправлять некому. Линия наименьшего сопротивления иногда представляется ему труднейшим способом, а трудное – легким. Его материал – лишь то, что он видит перед собой, и смутные представления обо всем остальном.