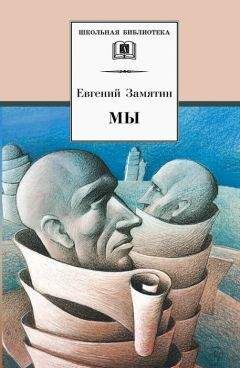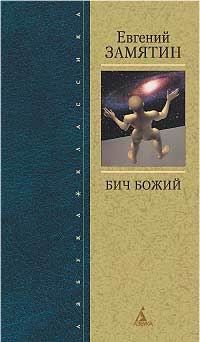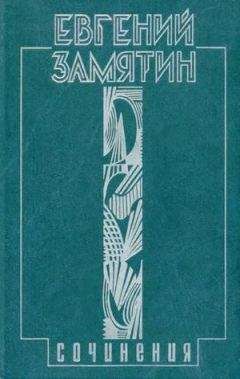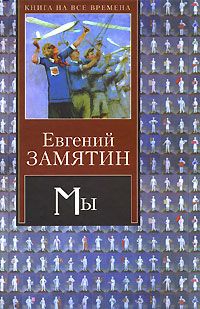Евгений Замятин - Том 1. Уездное
– Что, запасаетесь в дорогу добрыми делами? Считаете грехи? Ничего, ничего, дорогой мой: через три недели вы уже опять можете идти к епископу есть лангусты. Ну…
Дальше – белизна, сталь, стол, дрожь. Издалека с земли – огромный голос доктора Войчека:
– Считайте вслух: раз-два-три… Ну? Слышите? И нет уже языка, тела – нет ничего, конец…
Но для каноника Симплиция – это было только начало; концом это было для той паучьей женщины: она лежала, прикрытая белым, тихая, ее рыжие ботинки были завязаны в узелке вместе с платьем, на узелке – приколота записка, а в одной из белых комнат кричал красный ребенок с громадным, мудрым лбом.
Каноник Симплиций расклеил веки: над ним – рожки, прищуренные козьи глаза, но все же этот демон – несомненно, доктор Войчек, и каноник – явно еще здесь, на земле…
– А она – та женщина, с которой мы вместе… – больше у каноника не было голоса, не было сил, но доктор Войчек понял, закрутил свои рожки так, что самому стало больно.
– Вам, дорогой мой, повезло больше, чем ей: она уже докладывает, кому следует, о ваших добрых делах.
И тотчас же сзади каноника – какой-то жалобный, странный писк. Каноник хотел повернуться, доктор Войчек сердито крикнул:
– Да вы с ума сошли! Лежите! – шагнул куда-то и через минуту вышел на белую середину с подобравшим ноги к животу, скорченным младенцем – у младенца был громадный лоб.
Каноник Симплиций – на доктора Войчека, на младенца – все круглее, все шире.
– Это… это зачем… откуда?
Доктор Войчек долго молчал, вщуриваясь своими козьими глазами в каноника Симплиция – все глубже, на самое дно. Вдруг пополз улыбкой, пугая, – чему он улыбался, неизвестно. И наконец сказал – очень серьезно:
– Все равно – раньше или позже придется: уж лучше сейчас. Этот ребенок – ваш.
Застывшие ямочки; младенцы с испуганно раскрытым ртом.
– Вы хотите сказать… То есть как – мой?
– Так – ваш.
– Но ведь я же… Пресвятая Дева! – ведь я же все-таки мужчина!
– Дорогой мой, я знаю это не хуже, чем вы, – и тем не менее… Вы же понимаете: мне, врачу, поверить в чудо – а я не могу это назвать иначе, как чудом – гораздо труднее, чем вам, священнику, и все же я – ничего не поделаешь! – верю. Примите это как испытание – и как особую милость к вам неба.
– Но, доктор, ведь это же… ведь это невероятно!
– А воскрешение мертвых – вероятно? Или вы скажете, что не верите в это?
– Нет, нет – я верю… Но почему именно я, – я?
– Быть может, в наказание за какие-нибудь ваши грехи – откуда я знаю? Может быть, потому, что небо избирает своим орудием простые сердца, а вы, к счастью, просты сердцем – как младенец. Ну, успокойтесь, успокойтесь, вам вредно… Это – сын, мальчик.
Что ж иного оставалось канонику Симплицию, когда даже доктор Войчек – сам Войчек! – поверил в чудо? Каноник принял это и нес так же покорно, как апостол Петр свои вериги. Ему казалось даже, что он знает, за что небо так наказало и наградило его. Только иногда вечерами, когда они садились с доктором за домино, каноник спрашивал робко:
– А все-таки… все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах?
Но ответ всегда был один и тот же:
– Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо.
Доктор Войчек свято хранил тайну чуда, происшедшего с каноником Симплицием в Пепельную Среду. Он рассказывал многим, что каноник по доброте взял на воспитание сына одной умершей бедной женщины – и слава каноника росла, и рос мальчик Феликс. Когда Феликс называл каноника «папой», каноник становился нежно, шелково-розовым.
– Не называй меня так, Феликс. Я не папа тебе.
Мальчик морщил свой большой, умный лоб, молчал, спрашивал:
– А мама? Кто моя мама?
Каноник – еще шелковей, розовее:
– Это тайна. Я открою ее тебе только в тот день, когда навеки закрою глаза.
Этот день, по воле судьбы, был тоже в феврале, как и та самая Пепельная Среда, и такие же облака, ветер, в зимнем еще небе – ярко-синие окна. На стенке перед каноником медленно и невероятно быстро летел темный крест – тень от рамы. Ухватившись крепко за этот крест, каноник Симплиций стиснул зубы и кивнул Феликсу:
– Теперь, Феликс… Нет, доктор, не уходите: все равно, вы знаете это, и вы подтвердите ему, что это было именно так. Ты, вероятно, думал, Феликс, что я – твой отец. Так вот: я – твоя мать, а твой отец – покойный архиепископ Бенедикт.
Каноник последний раз увидел: огромный, как у архиепископа, лоб Феликса, рыжие рожки доктора, что-то светлое – как слезы – в его козьих глазах, и, как это ни странно, канонику показалось, что доктор Войчек сквозь слезы смеется. Впрочем, все это смутно, издали, сквозь сон: младенец уже засыпал.
1924
Комментарии
Настоящее издание является наиболее полным собранием сочинений Евгения Ивановича Замятина на сегодняшний день. Единственное собрание сочинений, вышедшее при жизни писателя в 1929 году в 4 томах, не включало ни первых произведений, ни романа «Мы», ни, разумеется, написанных им позже, но, кроме того, в него не входили его статьи, рецензии, заметки на литературные темы. В данном издании представлены все художественные произведения, литературно-критические статьи, портреты, воспоминания, записные книжки, избранная переписка.
Первый том содержит художественные произведения, созданные Е. Замятиным до 1922 года. Хронологически за эти рамки выходят лишь «Чудеса», опубликованные с 1917 по 1926 год.
Автобиография*
Впервые в кн.: Замятин Евг. Собр. соч. Т. 1. М.: Федерация, 1929.
Один*
Впервые: Образование. 1908. № 11. С. 17–48. Печатается по этой публикации.
В рассказе отражен авторский опыт тюремного заключения за участие в революционных студенческих выступлениях.
Девушка*
Впервые: Новый журнал для всех. 1910. № 25. С. 55–69. Печатается по этой публикации.
Автор, считая первые два своих рассказа слабыми, не включил их ни в сборники, ни в собрания сочинений. Они были напечатаны лишь в вышедшем в Мюнхене издании: Замятин Е. Сочинения. Т. 3. Munchen, 1986.
Уездное*
Впервые: Заветы. 1913. № 5. С. 46–99.
Печатается по: 3амятин Евг. Собрание сочинений. Т. 1. М.: Федерация. 1929.
Критика сразу же заметила это произведение молодого автора. М. Горький, А. Ремизов, Б. Пильняк считали повесть самым значительным произведением писателя.
«Замятин волнует читателя, заражает искренностью своих чувств, правдивостью своих переживаний. В голосе молодого художника прежде всего и громче всего слышится боль за Россию, – отмечал Раф. Григорьев (Р. Г. Крахмальников). – Это основной мотив его творчества, и со всех страниц немногочисленных произведений Замятина ярко и выпукло проступает недугующий лик нашей родины, – больная запутанность русской „непутевой“ души, кошмарная и гибельная беспорядочность нашего бытия и тут же рядом жажда подвига и страстное искательство правды… „Уездное“ – замечательное произведение современной литературы, и по глубине, значительности и художественным достоинствам не может найти себе соперников». (Ежемесячный журнал. Пг., 1984. № 12. С. 83, 84.)
«Повесть захватывает самые больные места современности», – писал И. Н. Игнатов (Русские ведомости. 1913, 7 июня).
Б. М. Эйхенбаум, обращая внимание на стилистику повести, заметил, что «автор не рассказчик, а „сказитель“…» (Русская молва. 1913, 17 июля).
После выхода первой замятинской книги повестей и рассказов, куда вошло и «Уездное» (Пг., 1916), критики вновь обратили внимание именно на заглавную повесть. «Творчество Замятина, – утверждал обозреватель „Нового журнала для всех“, – это нечто серьезное, большое, глубокое. Жуткой правдой, художественным проникновением веет от всех его рассказов. Лучшая его вещь, именем которой и названа книга, – это повесть „Уездное“…» (Новый журнал для всех. Пг., 1916. № 4–6. С. 59).
«Имя молодого беллетриста Замятина стало появляться в печати сравнительно недавно. Но его первую книгу берешь в руки с уважением и доверием… – писал критик И. М. Василевский (He-Буква). – Это писатель. У него не только большая сила изобразительности. У него есть еще какая-то серьезность, почти суровость, которая неизбежна во всяком серьезном деле… Именно такие, энергичные, живые таланты необходимо нужны нашей любимой и нелепой, такой уездной России» (Журнал журналов. Пг., 1916. № 7. С. 6–7).
Так испрохвала… – Испрохвала (тамбовск.) – не торопясь, исподволь.
На Куличках*
Впервые: Заветы. 1914. № 3. С. 35–109.
Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.
Повесть была написана Замятиным в Николаеве, где он занимался строительством землечерпалок. Бытописание о дальневосточном гарнизоне (где Замятин никогда не бывал), гро-тесково-фантасмагоричное, многими было воспринято как описание реальности. Сам автор вспоминал, что к нему обращались люди, которые узнавали в героях своих знакомых.