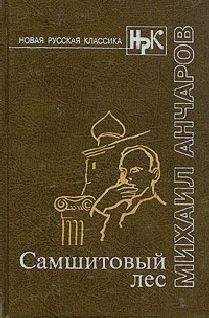Самшитовый лес. Этот синий апрель... Золотой дождь - Анчаров Михаил Леонидович
Узнал только потом. Время. Время толкало и кружило их в своих водоворотах - времяворотах. Тик-так, работали его часы, тик-так - и уже Сапожникову четырнадцать лет, а Глинскому часы подарили.
- Мама, - сказал Сапожников, - зачем людей рожают?
- Людей? Детей, наверно?
- Ну, детей…
- Чтобы любить кого-нибудь.
- Кого-нибудь? - спросил Сапожников.
- Кого-нибудь, кто будет тебя вспоминать долгое время… Конечно, бывает всякое… война, например, не дай бог… но в принципе дети должны пережить родителей…
Детей рожают, чтобы любить того, кто тебя переживет.
- Мама, что такое время? - спросил Сапожников.
- Время? Откуда же я могу знать?.. Никогда не задумывалась, - сказала мама. - Как тебе в школе живется, сынок?
- Хорошо, - сказал Сапожников. - А что?
- Ты стал вопросы задавать, как Нюра. А почему ты про время спросил? Кому-нибудь уже в классе часы подарили?
- Нет…
- Глинскому, наверно, - сказала мама. - Его отец третий день в цех без часов ходит, время спросить не у кого… Мы думали, в починку отдал.
- Котька все уроки на часы смотрит.
- Я тебе тоже подарю. Отцовские, серебряные, с велосипедистами на крышке… Не знаю, ходят ли они еще или нет.
- Мне не нужно, - сказал Сапожников.
На серебряной крышке мчались серебряные велосипедисты.
- Ты не думай, это ведь все равно твои часы, - сказала мама. - Когда ты фолликулярной ангиной заболел, приехал отец. Ты, конечно, ничего не помнишь, ты без сознания был… Он оставил часы и велел продать в торгсин… Тогда еще торгсины были… Доктор велел для тебя лимоны где-нибудь достать… Сейчас уже есть новые средства, красный стрептоцид и белый… а тогда не было… Я тогда все отнесла, - что было, - несколько ложек серебряных, обручальное кольцо, отцовский Георгиевский крест. Отец и в германскую был пулеметчиком, и в гражданскую у Ковтюха… А часы не продала - я хотела, чтобы они были у тебя…
Ты уже взрослый… Носить их, конечно нельзя, они карманные, их в жилетном кармане носят на цепочке. А где теперь жилеты?.. Будут у тебя над кроватью висеть на гвоздике.
- Ма, а почему отец пошел в цирк работать? - спросил Сапожников.
- Это сложная история… Ты еще маленький, - сказала мама.
Серебряные непродажные велосипедисты мчались по серебряному полю мимо старинных серебряных трибун с навесами и оглядывались на полустершихся серебряных соперников. Время не продавалось ни за какие лимоны, его нельзя было отменить даже ради спасения жизни или ради того, чтобы быть с человеком, к которому тянет больше всего на свете. Это и есть настоящее человеческое земное тяготение, а не бессмысленный камень, который падает на землю по невидимым рельсам. Сапожникову тогда хорошо жилось в школе. Его почему-то начали любить. То все не очень, а теперь вдруг все наоборот. Махнули на него рукой, что ли?
Глава 8
ВСЕ ЕЩЕ ОБОЙДЕТСЯ
Сапожников пришел в институтскую столовую. Гремели металлические табуретки на каменном полу и посуда в раздаточной, солидные голоса просили борщ, "пожалуйста, половинку", бефстроганов, компот. Молодые сотрудники сидели отдельно, пожилые отдельно. Пожилые смеялись, молодые сидели тихо. Сапожников и Барбарисов сели в уголок. В столовую вошла молодая женщина лет двадцати пяти, в тесном платье серого цвета. У нее были длинные волосы. Она подошла к столу молодых сотрудников, о чем-то заговорила и поставила ногу на перекладину табуретки. Потом ей что-то сказала девушка с птичьим носом, она обернулась, посмотрела на Сапожникова, и Сапожников поймал сонный, но любопытный взгляд. Она смотрела чуть искоса и неподвижно и была похожа на старшеклассницу, которой тесна школьная форма.
Сапожников отвернулся и заговорил с Барбарисовым, а потом спросил:
- Кто это?
- Ее зовут Вика.
- Откуда ты знаешь, про кого я спрашиваю?
- Это же ясно, - сказал Барбарисов. - Пей кофе, ненормальный.
- Скажи ей, что моя фамилия Сапожников.
- Когда?
- Сейчас.
Сапожников молчал. Барбарисов смотрел на него.
- Ладно, не тоскуй, - сказал Барбарисов. - Заводной ты.
Он поднялся, подошел к ней, взял ее за руку и подвел к Сапожникову.
- Фамилия этого дяди - Сапожников, - представил Барбарисов. Она улыбнулась.
Сапожников обмер. Вот как иногда звучит труба архангела.
- Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, - пел Сапожников. - И любят песню деревни и села… и любят песню большие города, - пел Сапожников.
Он шел по улицам Риги веселенький, и пел песню, и не иронизировал. В огромных деревьях парков запутался оранжевый закат. Зеленое и золотое - что за дни стоят!
Где суровое небо Прибалтики, где хмурые северные краски, которые обещало воображение при словах "Рига", "Латвия"? Не погода, одно баловство. Сапожников грыз орешки без скорлупы, клевал из пакета скрюченные белые орешки, похожие на личинок, и ему казалось, что за крышами домов закат опускается на колени.
А как все хорошо начиналось, подумать только! Нет, нет, думать как раз не полагалось. И может быть, этому не надо сопротивляться, когда такая красота кругом.
Темнело постепенно, и Сапожников проходил улицы и парки и спорил с Барбарисовым, который сегодня показывал ему древнюю стену. Там, где раньше у бойниц стояла воины, теперь под черепичным навесом лежали аккуратные дрова.
Барбарисов сказал:
- Они хотят здесь все почистить и устроить кафе.
- Красивая черепица, - сказал Сапожников. - И кирпичи.
- Бар поставят, кофеварку, современная музыка. Будет занятно, снаружи старина, а внутри модерн.
"Как бы не вышло наоборот, - подумал Сапожников. - Снаружи модерн, а внутри старина".
А теперь Сапожников клевал орешки и спорил с собой. Потому что нет, и раньше, в неподходящие самые моменты, жизнь не сдавалась. Потому что когда лошади были сытые, не так все происходило, как Сапожников вспоминал в Верее, и Рамона искала пластинку. Лошади переступали копытами, и сырая солома шелестела и перетряхивалась, и лошади тянули морды в сторону дороги, которая вся как есть была видна из сарая. Прямо-таки набегала на сарай, втыкалась в открытую дверь, и луна била в лошадиные храпы, как будто дорога уже летела им навстречу, а ведь это еще только предстояло.
- Почему мужчины! - спросил цыган.
- Ай-яй-яй, какой интересный мальчик, - сказала Галя Домашенко, по прозвищу Рамона. - А ты не забыл, где надо нажимать, чтобы выстрелило?
Интересный мальчик промолчал. Она имела право так спрашивать. В прошлый раз интересный мальчик действовал автоматом, как дубинкой. Он действовал экономно и удачливо, и у них сейчас было три лишних диска.
- Интересно, сколько детей может родить женщина? - спросила Галя.
- Зараз или по очереди? - спросил Цыган. - И потом, смотря какая женщина.
- Вот как я, например.
Заскрипело седло. Цыган дотянулся и погладил Галю по бедру. - Штук десять, наверно.
- И здесь погладь. - Она показала нагайкой на свои выступающие груди.
Цыган погладил ей груди.
- Приятно, - сказала она.
Она имела право говорить и делать все, что ей вздумается. Ее могли убить первой.
- Дорогу женщине, - сказала она.
Они дали ей дорогу, и луна осветила ей колени. Галя любила короткие стремена.
- А еще я бы послушал джаз, - гордо сказал Сапожников, потому что он был самый младший.
Никто ничего не ответил. Цыган рвал фотографии, и все поняли, что он их не сдал, как положено.
- Чтобы труба закричала, - сказал Сапожников.
Тогда он со всех компаниях был самый младший, а теперь он во всех компаниях был самый старший.
- Мечтательная труба, - сказал Сапожников.
- Не бойся, - сказала Рамона. - Ты красивей всех, и я тебя люблю.
Галя каждому говорила только то, что делало его человеком, не меньше, но и не больше. Покойники ее не интересовали.